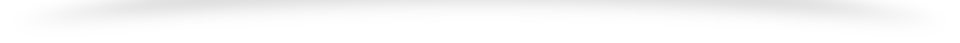По интернету ходит стихотворение, приписываемое Алексею Алексеевичу Широпаеву. В одном из ЖЖ блогов он написал, что эти стихи не его, а чьи не знает. IsraLove ищет автора. Если у вас есть такая информация, пожалуйста, присылайте нам на почту [email protected]
Чем вам навредили в России евреи?
Скажите, рабы, поясните, лакеи:
Они вам писали, они вам читали,
При них вы, хоть нехотя, но процветали.
Писатели были, артисты, поэты,
Певцы пели песни, звучали куплеты,…
Науки шагали, была медицина,
А с нею, в аптеках, — лекарства, вакцина.
Театры шумели, гремело кино,
Пока вы играли в свое домино,
И русскими матами жизнь свою крыли…
Они же соседями вашими были!
На них же вы дружно писали доносы!
Они отвечали на ваши вопросы:
Как жить, что вам делать, и кто виноват?
Они к вам на должности шли — нарасхват!
Они не мешали, за вас все решали,
И вас ведь, тащили в заветные дали!
При них же вы все были антисемиты!
А ныне, без них, лишь — шпана, да бандиты,
Воры, алкоголики, но, все — свои!
Евреи при них, стали вам не нужны.
Они все уехали! Вам же — неймется,
И ненависть прежняя все не уймется!
Чего вам без них-то сегодня мешает?
Какой же вас бес нынче всех искушает?
Вы стали рабами своих, вы прогнулись,
Вы в дикое прошлое дружно вернулись,
Отныне у вас и вожди, и кумиры, —
Свои же, такие же хамы, задиры:
Свои города, опустели, заводы,
Над вами другие бал правят народы.
У вас гастарбайтеры, тоже — свои,
И много пустой и безродной земли:
Свои же попы вам трясут бородами,
Над вами дебилы стоят господами.
Нет песен, балета, зато — все спокойно,
Друг друга вы грабите вольно, раздольно.
И горя уж нету у вас от ума,
И снова в почете — сума и тюрьма.
Век воли, мечтаете вы, — не видать,
И можете снова кряхтеть и страдать,
Твердить о загадочной русской душе,
И верить ушами своей же лапше.
У вас вновь — помойки, и мусор, и грязь,
Кто вылез из грязи, для вас, снова князь.
Вокруг много вони, помоев и мух,
Зато, это ваш, тот, родной, русский дух!
Вся жизнь – без ума, вроде вам — хорошо,
Добились всего, что вам надо еще?
Но, нет вам покоя и радости нет,
И пакостить лезете вы в интернет,
(Который, евреи придумали, тоже).
И вы, в монитор корча злобные рожи,
Все тех же евреев, как прежде, вините:
Нет, мне не понять ваш душок, извините.
Приглашаем на наш Телеграм-канал.
На нашем сайте собраны самые лучшие шутки про евреев. Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся!
Сара, вы мне так нравитесь! Давайте встретимся завтра.- Шо вы такое говорите! Я же замужняя женщина! Давайте сегодня.
Сема, ты мне приснился в эротическом сне. И шо там, Сара, я тебе вытворял? Ты пришел и все испортил…
Сара после недельной диеты сбросила… весы с пятого этажа.
– Фима, принеси мои зубы! Они там, в стакане… – Сарочка, зачем они тебе ночью? – Фима, я хочу быть страстной! Я хочу кусаться!
– Сара, ты только что проехала на красный! – Ну, шо ты, Изя, кричишь! Не такой уж он был и красный…
У евреев антисемитом считается тот, кто думает, что евреи ничем не лучше остальных народов.
— Сарочка, вы таки излишне опекаете своего сына. — Таки Сара Коннор как-нибудь сама разберется.
– Сара, мы женаты с тобой первый день, а ты уже ссоришься! – Но я таки ждала этого дня целых два года!
– Сара, ты слышала новость? Вчера Софочку увезли в больницу с тяжелейшим отравлением. – Она шо, язык прикусила?
– Розочка, какая у вас с Изей любимая поза? – 96. – Розочка, ты таки ошиблась, ты хотела сказать 69. – Ой, Цилечка, если бы…
– Мойша, вы уже устроились? – Нет, я пока ещё работаю!
Аня любит богатых парней. Аня не шлюха. Аня – еврей.
Что нам надо, бедным евреям… Кусочек хлеба да вагончик масла…
В семье евреев произошел скандал, сын купил пакет на кассе.
Бережливые и осторожные евреи сыну не обрезали, а подвернули.
Жили-были тюлька и килька. Вышли они замуж за евреев. И стали они сайра и мойва!
Если бы, большой спорт был для здоровья, то все евреи висели бы на турниках….
— Много ли надо бедному еврею? Кусочек белого хлебца, а икра — да бог с ней, пусть будет чёрной.
– Семочка, почему вы не спрашиваете, как я поживаю? – Розочка, как вы поживаете? – Ой, даже не спрашивайте!
Скайп придумали евреи – вроде бы как у тебя гости, а кормить-поить не надо.
Страницы: 1 2
Рекомендуемые статьи:
- Анекдоты про евреев
- Еврейские пословицы и поговорки
- Веселые шутки про жену
- Прикольные шутки ВКонтакте
- Самые прикольные шутки про…
…люблю не дрессированных, а диких
Был как обморок переезд,
но душа отошла в тепле,
и теперь я свой русский крест
по еврейской несу земле.
Эдесь мое исконное пространство,
здесь я гармоничен, как нигде,
здесь еврей, оставив чужестранство,
мутит воду в собственной среде.
В отъезды кинувшись поспешно,
евреи вдруг соображают,
что обрусели так успешно,
что их евреи раздражают.
Эа российский утерянный рай
пьют евреи, устроив уют,
и, забыв про набитый трамвай,
о графинях и тройках поют.
Еврейский дух слезой просолен,
душа хронически болит,
еврей, который всем доволен, —
покойник или инвалид.
Умельцы выходов и входов,
настырны, въедливы и прытки,
евреи есть у всех народов,
а у еврейского — в избытке.
Евреи, которые планов полны,
становятся много богаче,
умело торгуя то светом луны,
то запахом легкой удачи.
Каждый день я толкусь у дверей,
за которыми есть кабинет,
где сидит симпатичный еврей
и дает бесполезный совет.
Чтоб несогласие сразить
и несогласные закисли,
еврей умеет возразить
еще не высказанной мысли.
Да, Запад есть Запад, Восток есть Восток,
у каждого собственный запах,
и носом к Востоку еврей свой росток
стыдливо увозит на Запад.
В мире много идей и затей,
но вовек не случится в истории,
чтоб мужчины рожали детей,
а евреи друг с другом не спорили.
В мире лишь еврею одному
часто удается так пожить,
чтоб не есть свинину самому
и свинью другому подложить.
Живу я легко и беспечно,
хотя уже склонен к мыслишкам,
что все мы евреи, конечно,
но некоторые — слишком.
Земля моих великих праотцов
полна умов нешибкого пошиба,
а я среди галдящих мудрецов
молчу, как фаршированная рыба.
Слились две несовместных натуры
под покровом израильской кровли —
инвалиды российской культуры
с партизанами русской торговли.
За мудрость, растворенную в народе,
за пластику житейских поворотов
евреи платят матери-природе
обилием кромешных идиотов.
Душу наблюдениями грея,
начал разбираться в нашем вкусе я:
жанровая родина еврея —
всюду, где торговля и дискуссия.
Еврей не каждый виноват,
что он еврей на белом свете,
но у него возможен брат,
а за него еврей в ответе.
Евреев тянет все подвигать
и улучшению подвергнуть,
и надо вовремя их выгнать,
чтоб неприятностей избегнуть.
Не терпит еврейская страстность
елейного меда растления;
еврею вредна безопасность,
покой и любовь населения.
Нельзя, когда в душе разброд,
чтоб дух темнел и чах;
не должен быть уныл народ,
который жгли в печах.
Пустившись по белому свету,
готовый к любой неизвестности,
еврей заселяет планету,
меняясь по образу местности.
Варясь в густой еврейской каше,
смотрю вокруг, угрюм и тих:
кишмя кишат сплошные наши,
но мало подлинно своих.
Мне одна догадка душу точит,
вижу ее правильность везде;
каждый, кто живет не там, где хочет, —
вреден окружающей среде.
Еврей весь мир готов обнять,
того же требуя обратно:
умом еврея не понять,
а чувством это неприятно.
Во все разломы, щели, трещины
проблем, событий и идей,
терпя то ругань, то затрещины,
азартно лезет иудей.
Растут растенья, плещут воды,
на ветках мечутся мартышки,
еврей в объятиях свободы
хрипит и просит передышки.
Антисемит похож на дам,
которых кормит нежный труд;
от нелюбви своей к жидам
они дороже с нас берут.
Многого сочной заграничной русской прессы
я читаю, наслаждаясь и дурея;
можно выставить еврея из Одессы,
но не вытравишь Одессу из еврея.
В жизненных делах я непрактичен,
мне азарт и риск не по плечу,
даже как еврей я нетипичен:
если что не знаю, то молчу.
Заоблачные манят эмпиреи
еврейские мечтательные взгляды,
и больно ушибаются евреи
о каменной реальности преграды.
Еврейского характера загадочность
не гений совместила со злодейством,
а жертвенно-хрустальную порядочность
с таким же неуемным прохиндейством.
В еврейском гомоне и гаме
отрадно жить на склоне лет,
и даже нет проблем с деньгами,
поскольку просто денег нет.
Скитались не зря мы со скрипкой в руках:
на землях, евреями пройденных,
поют и бормочут на всех языках
еврейские песни о родинах.
Чуть выросли — счастья
в пространстве кипучем
искать устремляются тут же
все рыбы — где глубже,
все люди — где лучше,
евреи — где лучше и глубже.
Катаясь на российской карусели,
наевшись русской мудрости плодов,
евреи столь изрядно обрусели,
что всюду видят происки жидов.
Еврей живет, как будто рос,
не зная злобы и неволи:
сперва сует повсюду нос
и лишь потом кричит от боли.
Евреям доверяют не вполне
и в космос не пускают, слава Богу;
евреи, оказавшись на Луне,
устроят и базар и синагогу.
Шепну я даже в миг, когда на грудь
уложат мне кладбищенские плиты:
женитьба на еврейке — лучший путь
к удаче, за рубеж, в антисемиты.
В убогом притворе, где тесно плечу
и дряхлые дремлют скамейки,
я Деве Марии поставил свечу —
несчастнейшей в мире еврейке.
Вон тот когда-то пел как соловей,
а этот был невинная овечка,
а я и в прошлой жизни был еврей —
отпетый наглый нищий из местечка.
ЛЕХАИМ ОКТЯБРЬ 2001 ТИШРЕЙ 5762 — 10 (114)
ЖАЖДА СВОБОДЫ И ДОЛЯ РАБА
К 85-й годовщине со дня смерти С.Я.Фруга
Матвей Гейзер
Имя русско-еврейского поэта Семена (Шимона) Яковлевича Фруга (1860 – 1916), чьи стихи в 80 – 90-х годах ХIХ века властвовали над умами и чувствами многочисленных его читателей и почитателей, причем отнюдь не только евреев, оказалось ныне почти забыто. Эта публикация об С. Фруге – первая после долгих лет молчания.

А между тем, как писал в статье, посвященной его памяти, искусствовед С.М. Гинзбург, «имя Фруга сразу приобрело необыкновенную популярность. Номера русско-еврейских журналов с его произведениями ждали с нетерпением, как праздника; его стихотворения учили наизусть и вскоре стали они распеваться, невесть откуда являлись к ним мелодии»…
Семен Фруг, как справедливо отмечают историки литературы (С.А. Венгеров и другие), стал первым еврейским, а точнее – русско-еврейским, поэтом России. Предвижу возражения: «А как же Леон (Арье-Лейб) Мандельштам, выпустивший еще в 1840 году сборник стихов на русском языке и выполнивший первый перевод Пятикнижия на русский?» Безусловно, такой вопрос правомерен, постараюсь на него ответить. Как известно, Леон Мандельштам был ученым евреем при министре народного просвещения С.С. Уварове, он занимался разработкой проекта школьной еврейской реформы, и, думаю, имя его вправе занять достойное место в истории евреев России именно в связи с его общественной, просветительской деятельностью. Будучи человеком, безусловно, широко одаренным, по-настоящему первым еврейским поэтом России он все же не стал и может считаться таковым только формально.
Ранние стихи Фруга появились в русско-еврейских журналах Петербурга, а вскоре и в русских периодических изданиях конца 70-х – начала 80-х годов позапрошлого века. Первый сборник его стихов был издан там же, где первые стихи, в Петербурге, в 1885 году и печатался в типографии А.С. Суворина, что говорит о многом. Рецензий и отзывов на эту книгу было множество. Приведем отрывок из воспоминаний выдающегося историка С. Дубнова, вмещающий, на наш взгляд, впечатления и остальных: «Люди следующих поколений, когда творчество Фруга остановилось в своем росте (автор имеет в виду конец 80-х годов ХIХ века. – М.Г.), не могут себе представить, какое глубокое душевное волнение вызывали в первые годы фатальной эпохи его современные элегии, библейские мотивы, исторические легенды, как много говорил истерзанному сердцу своего поколения поэт, который «ни одной песни веселой не спел своему народу”».
А вот и одна из тех песен, как назвал эти поэтические шедевры С. Дубнов, – фрагмент стихотворения «Над Библией» из первого сборника С. Фруга:
В священном сумраке легенды вековой –
Прозрачна и бледна, как блеск зари,
скользящий
По заводям глухим, заросшим осокой
И желтых камышей таинственною
чащей –
Проходит предо мной толпа святых
теней;
Спокойно светятся их образы немые…
Давно минувших лет, давно забытых
дней
Я слышу отзвуки заветные, родные…
О, светлый мир чудес! Расцвет могучих
сил,
Святая колыбель нетленной вечной
славы!
Из-под надгробных плит, из тьмы
сырых могил
Встает передо мной твой образ
величавый,
И песня громкая свободы и любви
Растет, кипит во мне волной
мятежной, шумной,
И вспыхивает вновь огонь в моей
крови,
И рвется из груди крик радости
безумной…
Это стихотворение по сути дает представление о всей поэзии Фруга, философа, поэта, всегда остававшегося верным Священной Книге в своем творчестве. По мнению В. Львова-Рогачевского, выдающегося литературоведа ХIХ – начала ХХ века, «С. Фруг принес в литературу совершенно иные настроения и лозунги, он отозвался на отчаяние своего народа»; «оплакивал страдание бедствующего народа», – в унисон ему замечает С.А. Венгеров, – «пропел песнь надгробную надежде»… В этой характеристике творчества поэта особо обращают на себе внимание ноты драматизма. Чтобы лучше это понять, обратимся сначала к судьбе поэта.
Шимон Фруг родился в 1860 году в еврейской земледельческой колонии Бобровый Кут в Херсонской губернии, то есть на тех землях, где поселились первые евреи-земледельцы Российской империи. Колония была создана в 1808 году на берегу реки Ингулец, правом притоке Днепра, выходцами из Могилевской губернии, среди которых был и дед Шимона Фруга, на их собственные деньги. Здесь, в Бобровом Куте, в тот же год в традиционной еврейской семье родился отец будущего поэта, Мойше-Цви Фруг. Землепашец, он исполнял еще обязанности писаря колонии. Рано женившись, Мойше-Цви вскоре развелся, что для верующих евреев было крайне редко. Во второй раз женился спустя много лет. Был счастлив в новом браке, дети рождались один за другим, однако быстро умирали…
Шимон был пятым ребенком в семье и первым, оставшимся в живых. По поводу его рождения отцу прислал поздравление знаменитый хасидский ребе Менахем-Мендл из Любавичей, любимый внук и ученик рабби Шнеура-Залмана из Ляд…
Итак, пятому ребенку Мойше-Цви Фруга суждено было не только остаться в живых, но и получив образование не только в хедере, а и в русской начальной школе, открытой в этой еврейской сельскохозяйственной колонии, изумить многонациональную Россию изысканной по выражению и необычайно богатой эмоционально поэзией, на редкость емко выражающей еврейскую душу на русском языке. Приобщение к русскому языку с детства, особое чувство этого языка и безусловный врожденный поэтический дар позволили еврейскому мальчику, воспитанному в хасидских традициях, воспеть свой народ не столько на родном, сколько на выученном, чужом для него, языке, да так, что голоса его ждали многие в России. Поэт достойно возвестил о своем народе, волею судеб занесенном и в эту страну, о трудной его судьбе.
Сказано в Теилим (137): «При реках Вавилонских там сидели мы и плакали, вспоминая Сион. На ивах средь него повесили мы кинноры наши… Как нам петь песнь Г-спода на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука. Да прилипнет язык мой к небу моему, если не буду помнить тебя, если не вознесу Иерусалим на вершину веселья моего…»
Со времен создания этих стихов прошли тысячелетия. Евреи пели свои песни на разных языках на земле многих стран и в радости, и в горе. Но данный обет они, по существу, не нарушали, ибо за все годы изгнания так и не забыли Иерусалим…
И все же, возможно ли на языке, приобретенном в силу исторических обстоятельств, излагать сокровенные мысли так, как на родном? Да. Если этот язык становится родным. Даже Х.-Н. Бялик, поэт, не признававший права евреев писать на чужих языках (даже идиш считал чужим, именуя его «жаргоном»), как бы сам себе противореча, писал о Семене Яковлевиче: «Читая Фруга, даже на чужом языке, я чувствовал в нем родную душу, душу еврея, я обонял запах Библии и пророков… Я воспринимал Фруга не только как читатель, но и как еврей. Для меня Фруг писал не по-русски. Читая его русские стихи, я не замечал русского языка. Я чувствовал в каждом слове язык предков, язык Библии, я чувствовал душу человека, страждущего за еврейский народ».
Я вновь пришел к тебе, родная сторона;
Пришел измученный, с поникшей
головою.
Но радостью немой душа моя полна,
Той тихой радостью, той светлой
тишиною,
Что веют в полумгле румяных вечеров
С обрывов и низин Днепровских берегов,
Где в светлой глубине души моей
впервые
Два звука родились, согласные, родные,
Как два подземные ключа, –
И песня первая, свежа и горяча,
Зажглась в моих устах, вскипала под
перстами
И брызнула со струн звенящими
струями.
О, родина моя, недаром же душой
Стремился я к тебе…
В этом стихотворении, как нетрудно догадаться, речь идет не об исторической родине евреев, а о «втором Сионе» – так называли Российскую империю многие евреи второй половины ХIХ века. Да, душой, полной любви, евреи прирастали к земле, где рождались и жили… Но прав был Бялик в отношении феномена Фруга, что его стихи на русском языке читаются евреем по-еврейски, другому же способны передать еврейскую душу во всей ее первозданной Б-жественной красоте.
И, надо сказать, кроме иврита и идиша, Фруг знал не только русский, но и украинский язык, а с ним и украинскую поэзию. Замечательные одухотворенные стихи он посвятил памяти великого украинского поэта Тараса Шевченко:
Так отчего ж на эту тризну
С такой я радостью спешил,
Неся в душе не укоризну
За эту кровь и ряд могил,
А слово теплого привета,
Который сердцу люб и мил.
Не оттого ль певец Украйны,
Что в песнях тех, что пел нам ты,
Лежат пленительные тайны
Непостижимой красоты;
Что, осененный светлой думой,
Твой дух покой и мир любил,
И под суровостью угрюмой
Ты сердце мягкое таил;
Что, кровь и муки воспевая,
Ты часто сам болел, рыдая,
Скорбя в душевной глубине
Об этой мрачной старине…
На иврите и на идише Фруг тоже писал, но в русско-еврейскую литературу он, конечно же, вошел стихами, написанными на русском, и его «Сиониды» стали образцом и точкой отсчета не только для русских поэтов еврейского происхождения (В. Жаботинский, Х. Зингер, С. Маршак, Л. Яффе), но и для многих русских поэтов, писавших на библейские темы (И. Бунин, М. Цветаева, К. Романов). Как здесь не припомнить мысль французского писателя Рене Шатобриана о том, что литература всех народов начинается с поэзии, и добавим: в значительной мере – с Библии.
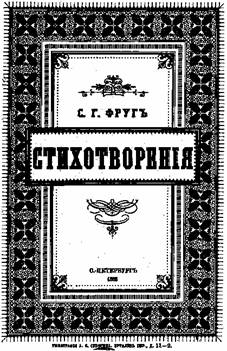
Представление о русско-еврейском поэте С.Я. Фруге невозможно составить без упоминания имени Пушкина. Вот стихотворение, написанное в 1899 году, посвященное столетию со дня рождения великого поэта, которого Фруг не просто любил – обожал:
Поэзии русской чарующий гений,
Пленитель души и властитель ума!
С бессмертных страниц твоих дивных
творений
Звучит нам великий завет
вдохновений:
«Да здравствует солнце,
да скроется тьма!»
И вторя теперь дорогому завету,
Воскликнем: Для тех, чей удел,
как тюрьма,
Кто отдан во власть роковому
запрету
И все же стремится к ученью
и свету, –
«Да здравствует солнце, да скроется
тьма!»
Для всех, кто стремится к науке
и знанью,
Чтоб сердца добычу и жатву ума
Нести на треножник живого сознанья,
Чтоб чести и правды помочь
процветанью, –
«Да здравствует солнце,
да скроется тьма!..»
Тема «Пушкин – Фруг» весьма важна, чтобы понять феномен появления русско-еврейской поэзии вообще и Фруга – в частности. В дни 100-летия со дня рождения Пушкина Фруг написал статью «Чувства добрые», опубликованную в 1903 году, в которой повел разговор о его стихотворении «В еврейской хижине лампада…». Это довольно неожиданно, но Фруг сопоставляет его с «Памятником» (к сожалению, ошибочно утверждая, что оба стихотворения написаны в 1833 году, тогда как на самом деле «В еврейской хижине лампада…» создано в 1826-м). Он пишет: «Если трудно сказать, к какой исторической эпохе относится сюжет этой незавершенной поэмы («В еврейской хижине лампада…” – М.Г.), то в то же время с отрадной ясностью выступает один знаменательный момент в жизни русских евреев, которому вполне могут быть приурочены… строки этого стиха. В незабвенную эпоху Царя-Освободителя» (Александр II. – М.Г.).
Невозможно не обратить внимания на то, почему еврей Фруг, и не он один, называет Александра II «Освободителем». В ответ достаточно процитировать Указ царя от 31 марта 1856 года: «Пересмотреть существующие о евреях постановления для соглашения их с общими видами слияния сего народа с коренными жителями, поскольку нравственное состояние евреев может сие дозволить».
Итак, статья Фруга – во многом она проливает свет на его мировоззрение и многое объясняет в его творческой судьбе. «В незабвенную эпоху Царя-Освободителя, – писал он, – в «еврейскую хижину” постучался «странник” – тот могучий дух культурного возрождения, который внес в эту темную и тесную хижину струю новой, полной надежд и отрады жизни… В ту хижину, где «старик читал Библию” (и не только Библию), этот странник внес букварь, русскую хрестоматию…
И тогда-то к Пушкину действительно «постучался еврей”, но не за презренным златом,.. а за чистым золотом возвышенных поэтических вдохновений. Тысячи детей «презренного еврея” стали учиться русскому языку. Первое стихотворение, выученное еврейским ребенком, было Пушкина. Первый восторг поэтического настроения, испытанный еврейским юношей, еврейской девушкой, почерпался им у Пушкина»…
Сам Фруг, «первый восторг поэтического настроения», как он рассказывает в той же статье, ощутил своим чутким юным слухом при чтении его учителем первого же стихотворения Пушкина «Птичка Б-жия не знает ни заботы, ни труда…» Он замечает также: «В эту колонию периодически приезжал для сбора дани цадику (праведник; в данном случае – духовный руководитель хасидской общины. – М.Г.) посланец последнего. Едва ли понимая слово по-русски, этот человек относился как нельзя более толерантно к этой русской школе».
А теперь обратимся при помощи историков литературы к биографии поэта и его собственному творчеству, чтобы проследить их взаимосвязь.
Как известно, Девятое Ава – день глубокого траура, установленного в память о разрушении обоих Храмов. В этот день во всех синагогах мира читают библейскую Книгу Эйха. И можно ли после ее пронзительных строк сказать что-то свое? Наверное, даже необходимо. Евреи все века испытывают в этом потребность и обращаются к своей истории снова и снова, с каждым событием или драмой по-новому осмысляя прошлое и сегодняшний день. Фруг написал стихотворение «Девятое Аба» в очень страшные для евреев России времена погромов начала 80-х годов ХIХ века. Обращаясь на русском языке ко всем, кто прочтет его стихи, евреям и неевреям, поэт возгласил:
Но чей в дали раздался голос чудный:
– Ты ошибаешься, слепой бездушный
Рим!
Не обладать тебе с твоей гордыней
блудной
ни родиной моей, ни алтарем моим…
И если ныне нет к нему дороги,
не все ль равно? Мой край, взлелеянный
мечтой,
Цветет в душе моей; и светлые
чертоги
я вижу там, где мрак и прах перед
тобой.
В этом стихотворении слышится не только призыв к возвращению евреев на историческую родину (погромы привели к такой мысли не одного Фруга, к тому же призывали евреев некоторые русские писатели, уважительно относившиеся к древнему народу, народу Книги, не веря, что ему дадут в России обещанные, равные с другими права. – Д.Л. Мордовцев). В нем улавливается страстное желание поэта внушить русским евреям веру в вечность заповедей Моисея и неудивительно, что он делает это на русском языке.
Израильский литературовед И. Портнова в статье «Еврейский поэт России» отмечает, что среди евреев последней четверти ХIХ века были такие, кто оставался предан идеалам основателей (писатели О. Рабинович, Л. Леванда и другие) русско-еврейской литературы, веривших обещаниям Александра II уравнять евреев в правах с другими народами России. Погромщики, реакционеры, полагали такие люди, – явление временное. Другие видели выход лишь в исходе евреев из России (палестинофилы). «Молодой Фруг, палестинофил и просветитель вместе, искренне был с «уезжающими” и с «остающимися”, – писала И. Портнова. – Политически разрозненных и громко спорящих читателей он объединял национальной идеей: его считали своим поэтом и те и другие…»
С. А. Венгеров в статье о Фруге замечает: «Как всякий лирик, Фруг тесно связан с искренностью своих настроений. Больше всего искреннего увлечения в первом сборнике («Стихотворения». Петербург, 1885 год. – М.Г.) не только потому, что поэт был моложе, но и потому, что он явился отражением большого подъема в русском еврействе, относящегося к концу 1870-х годов и началу 1880-х… Тогда в мыслящей части еврейства, воспитавшейся под влиянием лучших элементов русской общественности, значительно повысилось чувство собственного достоинства…
В 1879 году Фруг стал посылать в русско-еврейский орган «Рассвет” стихотворения, сразу обратившие на себя внимание читателей этой газеты (журнала. – М.Г.). Молодому поэту-самородку дали средства приехать в Петербург, где он с тех пор и живет, исключительно посвятив себя литературной деятельности. Известность вне круга… читателей еврейских органов Фруг приобрел в середине 80-х годов, когда стихотворения его стали появляться в общих журналах – «Вестнике Европы”, «Русской Мысли”, «Недели” и других изданиях. И когда вышел первый сборник его стихотворений, сборник этот был встречен критикой очень сочувственно…».
Когда в России в начале 80-х произошли еврейские погромы, вера в возрождение еврейской культуры на русской почве пришла в упадок. И поэт Семен Фруг ушел из русской литературы. Нет, он продолжал писать стихи, баллады, поэмы (в 1902 году вышел его второй сборник «Сиониды и другие стихотворения»), но это был уже совсем другой поэт. В это время в нем начинает преобладать писатель, публицист. В конце ХIХ столетия Семен Фруг входит в русско-еврейскую журналистику своими фельетонами, в русско-еврейскую литературу – прозой, публицистикой. Его публиковали в «Петербургской газете» и других престижных изданиях. Но от поэзии он уходил все дальше. Тому было много причин и, конечно, одной из главных были погромы. Еще об одной, на первый взгляд самой неожиданной, он однажды с горечью сказал С. Дубнову, с которым связывала его давнишняя дружба, – они даже какое-то время жили в Петербурге по соседству (Фруг в ту пору работал домашним служащим у адвоката М. Варшавского): «Что же было делать? Ведь еврейские меценаты не спасут меня от голода».
Было ему знакомо и чувство горькой неприкаянности. Есть у Фруга позднее стихотворение «Итоги» (1900):
Мне сорок лет, а я не знал
И дня отрадного поныне;
Подобно страннику в пустыне,
Среди песков и голых скал
Брожу, пути не разбирая.
Россия – родина моя,
Но мне чужда страна родная,
Как чужеземные края…
В этих строках, как видим, глубокая драма человека, до конца и беспредельно любившего страну, где он родился, но… Впрочем, и Лермонтов, горячо любимый Фругом, задолго до этих стихов написал: «Люблю отчизну я, но странною любовью!.. / Но я люблю – за что, не знаю сам…» Наверное, такова судьба всех истинных поэтов России – чувство одинокой, неразделенной любви.
О, если бы жизнь Фруга в Петербурге складывалась так удачно и просто, как пишут об этом авторы статьи в энциклопедии Брокгауза-Ефрона!.. С первого дня пребывания в столице Фруг как еврей не мог не почувствовать себя человеком бесправным. Не получив высшего образования, не будучи купцом первой гильдии, даже не имея ремесла, он не мог рассчитывать получить здесь право на жительство. Его пребывание в Санкт-Петербурге «узаконил» только Марк Абрамович Варшавский, видный деятель Общества по распространению просвещения среди евреев в России. И здесь Фруг прожил почти тридцать лет… Но в 1909 году он все же вернулся в любимую Одессу, которую считал для себя родной. Стихи тогда почти не писал – создавал прозу, продолжал писать удивительные по своей выразительности и мощи фельетоны. Вместе с Х.-Н. Бяликом и И.Х. Равницким он работал как переводчик и автор предисловия «Агады»… Его русский был не менее совершенным, чем у исконно русских классиков литературы. Интересно, как рано обнаружилось у Фруга такое владение этим языком?..
«С.Г. Фруг прекрасно владел русским языком… Уже по выходе его сборника в 1885 году о молодом певце заговорила не только еврейская, но и русская печать. Известный критик и публицист К. Арсеньев причислил С. Фруга в журнале «Вестник Европы” к группе лучших поэтов нового поколения», – писал В. Львов-Рогачевский. При этом он замечает, что по своему таланту С. Фруг, как и Минский, и Надсон, мог остаться и в общерусской литературе, но «Фруг стал золотой арфой своего народа, стал национальным еврейским поэтом».
Интересно, что Ю. И. Айхенвальд, видный литературовед, критик конца ХIХ – первых десятилетий ХХ века, свою статью, прочитанную на вечере памяти С. Фруга (Берлин, 1926), назвал «Еврейский Надсон». Почему он отождествил эти два имени? Вероятнее всего поводом послужило знаменитое стихотворение Надсона:
Я рос тебе чужим, отверженный
народ,
И не тебе я пел в минуты
вдохновенья.
Твоих преданий мир, твоей печали
гнет
Мне чужд, как и твои ученья.
И если б ты, как встарь, был счастлив
и силен,
И если б не был ты унижен целым
светом,
Иным стремлением согрет и увлечен,
Я б не пришел к тебе с приветом.
Но в наши дни, когда под временем
скорбей
Ты гнешь чело свое и тщетно ждешь
спасенья,
В те дни, когда одно название «еврей»
В устах толпы звучит, как символ
отверженья,
Когда твои враги, как стая жадных
псов,
На части рвут тебя, ругаясь над
тобою,
Дай скромно стать и мне в ряды
твоих бойцов,
Народ, обиженный судьбою!
Семен Яковлевич Надсон написал эти стихи в 1886 году – как раз в то время, когда многие хотели уйти, избавиться от своего еврейства, а иные, наоборот, выражали свой протест против нарастающего антисемитизма в демонстративном возвращении в еврейство, из русской – в русско-еврейскую литературу.
Небезынтересно заметить, что это стихотворение Надсона было впервые опубликовано в 1901 году в Петербурге в сборнике «Помощь». Альманах этот был издан для оказания помощи евреям, пострадавшим от неурожаев. О стихотворении «Я рос тебе чужим…», ставшем органической частью русско-еврейской литературы и, несомненно, русской поэзии, Львов-Рогачевский пишет в своей книге: «В поэзии С.Я. Надсона громко говорит голос крови несмотря на то что среди стихотворений поэта-юноши было только одно, посвященное родному народу, да и это единственное стихотворение вошло лишь в последнее издание произведений С.Я. Надсона».
Итак, упомянутое стихотворение Надсона, равно как уход из поэзии основоположника русско-еврейской поэзии Фруга, свидетельствует о той драме, которую ощутило русское еврейство во второй половине 80-х годов, и продлившейся затем долгие десятилетия.
Снова обратимся к статье Фруга «Чувства добрые»: «Да, потомки презренного еврея горячо любят Пушкина и вместе с лучшей частью русского общества глубоко скорбят о вырождении нашей поэзии благодаря новейшим нездоровым веяниям извне засорившим чистый родник поэтического творчества… Пушкин был великим законодателем русского Парнаса…
Прямо и смело говорю: если бы Пушкин увидел, чем стала часть еврейского населения России за последнее пятидесятилетие, если бы он видел хотя бы только еврея-врача, добровольно отправляющегося в местности, зараженные холерой, цингой, голодным тифом, еврея, занимающего кафедру русской словесности… и в то же время сотни других евреев, лишенных возможности применять к живой и благотворной деятельности свои знания и силы, – он, стремившийся пробуждать своей лирой чувства добрые и милость к падшим призывать, вряд ли молча прошел бы мимо этих явлений».
Так искренне размышлял Фруг в начале ХХ века, но в том же году, когда он написал эту статью, близ Одессы, где он тогда жил, в Кишиневе, произошел один из самых страшных в истории России еврейских погромов (о котором другой поэт, не русско-еврейский, а еврейский, пишущий на иврите, Хаим-Нахман Бялик написал поэму «Сказание о погроме»). Оставаться русско-еврейским поэтом в такую пору было непросто.
Вместе с Бяликом и Равницким Фруг продолжает заниматься русско-еврейской литературой, но уже в ином направлении. В его переводах было издано несколько сборников «Агады» (сказания, притчи, изречения из Талмуда и Мидрашей), он писал статьи, в основном на литературные темы, фельетоны и очень редко – стихи. В Одессе еще при его жизни вышло несколько изданий его полных собраний сочинений. Последнее из них – последнее до нынешней поры – вышло там же в 1917 году, посмертно. Средства на это издание были собраны Фондом имени Фруга, который возглавил Х.-Н. Бялик – самый признанный в ту пору еврейский литератор.
Фруг и умер в Одессе – 6 сентября 1916 года. О его похоронах сохранилось немало воспоминаний, свидетельствовавших, что Одесса до той поры еще не видела подобных траурных процессий. Однако уже очень скоро – после Октябрьской революции – имя Фруга оказалось запрещенным, забытым, на его поэзию было наложено табу. Памятник, установленный на его могиле, вскоре исчез – прах поэта был перенесен на другое одесское еврейское кладбище, на Слободку, там он покоится и доныне, а первый памятник Фругу в конце концов нашел свое место на исторической родине поэта – в Израиле. Стихи его начали появляться в разных сборниках и антологиях России только в конце 80-х годов прошлого века, при перестройке.
Завершая этот, безусловно, грустный разговор о первом русско-еврейском поэте и припомнив строки молодого Фруга «О, родина моя, недаром же душой / Стремился я к тебе…», исполненные горячей веры и любви, я приведу отрывок из его позднего стихотворения, написанного незадолго до смерти, который, на мой взгляд, довершает образ этого поэта и представление о драме его судьбы.
Иерусалимский журнал выпустил номер, посвященный Борису Слуцкому. Главное в номере — это никогда прежде не издававшиеся стихи поэта. Около двухсот стихотворений.
Если бы главный редактор Игорь Бяльский больше вообще ничего путного в этом журнале никогда бы не опубликовал, то только этим он бы оправдал существование этого уникального издания русскоязычных израильтян.
Иерусалимский журнал
Для меня Борис Слуцкий — это:
1) главный поэт величайшей войны в мировой истории;
2) главный поэт русскоязычного еврейства, бывший подлинным голосом еврейской советской интеллигенции;
3) главный реформатор русского стиха во второй половине ХХ века.
Я понимаю, что данные характеристики Слуцкого — не единственно возможные. Место поэта в истории и культуре этим не ограничивается. Борис Слуцкий — это гораздо больше. Можно добавить:
4) один из главных поэтов советской интеллигенции;
5) великий харьковский поэт;
6) преемник Маяковского;
7) учитель Бродского (Иосиф Бродский говорил, что «Памятник» Слуцкого толкнул его к стихописанию).
Можно набросать еще с десяток пунктов: от авторства эпической хрестоматии по русской истории, которая осмыслена в его стихах, до влияния на бардовскую песню. От лаконично сформулировавшего проблему противостояния «физиков и лириков» в стихотворении, которое определило многие последующие споры, до создателя этического кодекса поведения «в тупике», который актуален и сегодня. Можно представить себе серьезные академические работы (и даже монографии) по темам: Слуцкий и Польша, Слуцкий и Украина, Слуцкий и религия…
Поэтому и подчеркиваю: «для меня».
Поэт войны
Слуцкий — не единственный поэт, писавший о Второй мировой. Но подлинное осмысление того, что произошло с народом, великой и трагедии, более всего явлено в его стихах.
Это рефлексия войны — подвига и трагедии. Войны, которая была увидена представителем великого поколения ифлийцев. Поколения, которое к этой великой схватке готовилось. Поколения — большинство поэтов которого с войны не вернулось.
И это была поэзия тех, кто, вернувшись с войны, ощутили себя ненужными: «Когда мы вернулись с войны, я понял, что мы не нужны».
Лучшим стихотворением о войне я считаю его «Кельнскую яму».
Еврейский поэт
Слуцкий — не единственный большой поэт-еврей, писавший на русском языке. Но у Пастернака или Давида Самойлова еврейской темы в поэзии нет. Или почти нет.
У Мандельштама или Светлова — этого очень мало.
Большинство больших поэтов еврейского происхождения, придя в русскую литературу, старались избавиться не только от картавого акцента, но и перенять русский взгляд на мир, русский голос и слог в его описании.
А Слуцкий видел мир и еврейскими глазами. Говорил не только «от имени России», но и от имени русскоязычного еврейства. Обладал особым — бинокулярным — русско-еврейским видением мира.
Точка опоры
А нам, евреям, повезло.
Не прячась под фальшивым флагом,
На нас без маски лезло зло.
Оно не прикрывалось благом.
Еще не начинались споры
В торжественно-глухой стране.
А мы — припертые к стене —
В ней точку обрели опоры.
Еврейство для этого поэта — это и вынужденная позиция, которую навязывает откровенное зло антисемитизма, и точка опоры, которую обретает прижатый, даже не по своей воле, к стене. Обретает вместе с четкими критериями распознавания добра и зла. Эти критерии в просторечии называются совестью.
Ефим Бершин
Интерпретируя эти строки в «Иерусалимском журнале», Ефим Бершин дает собственное прочтение: «Повезло?
В чем повезло? В том, что «без маски лезло зло»? Нет.
В том, что «точку обрели опоры». Многие фронтовики признавались, что годы войны после страшных репрессий тридцатых годов стали для них временем относительной свободы. А молодые евреи отыскали в стране того времени «точку опоры». Потому что вместе со всеми, наконец, как равные среди равных, пошли на бой с «фараоном» XX века.Вместе. Со всеми. В тот момент им казалось, что поиск единства со страной проживания, землей проживания увенчался успехом. Можно было наравне со всеми воевать и умирать…».
Слуцкий и Израиль
Многие деятели культуры СССР, угождая начальству или под давлением, приняли участие в «антисионистской пропаганде», которая сильно отдавала антисемитизмом.
Семен Липкин вспоминает, что готовилась телепередача против Государства Израиль, «которым управляют фашисты с голубой звездой». В передаче должны были участвовать известные деятели искусства и литературы еврейского происхождения. Липкин уклонился от участия, немедленно вылетел в Душанбе для переводческой работы. Вызвали и Слуцкого. Слуцкий вынужден был сказать, чтобы от него отстали: «Меня интересуют заботы русского мужика, заботы израильского мужика оставляют меня равнодушным». К Слуцкому больше не приставали.
А в это время в Израиле двоюродный брат Бориса Абрамовича Меир Амит (урожденный Слуцкий) руководил военной разведкой АМАН и Мосадом.
Двоюродный брат Бориса Слуцкого — Меир Амит (при рождении — Меир Хаймович Слуцкий), израильский военный и государственный деятель, начальник военной разведки (1962—1963) и директор Моссад (1963—1968).
Реформатор стиха
Слуцкий максимально увеличил описательные и осмыслительные возможности русской поэзии, продвинув реформу, которая была начата футуристами, а до них Некрасовым.
Поэзию Бориса Слуцкого, как известно, открыл широким читательским кругам Илья Эренбург, опубликовав 28 июня 1956 года статью «О стихах Бориса Слуцкого» в «Литературной газете». Он указал на масштаб автора, ещё до того как была опубликована первая книжка Слуцкого.
«Если бы меня спросили, чью музу вспоминаешь, читая стихи Слуцкого, я бы, не колеблясь, ответил — музу Некрасова» — говорится в статье Эренбурга.
Слуцкий — действительно наследует гражданской линии русской поэзии, которая идет от Некрасова, через Маяковского.
Но наследует Слуцкий не только теме. В том же номере «Иерусалимского журнала» заметка Алексея Алехина: «Для поэзии второй половины ХХ века Борис Слуцкий сделал примерно то же, что Некрасов веком раньше. Я имею в виду не тему, разумеется (у меня есть некоторый скепсис в отношении педалированного народолюбия классика), а поэтику. В сироп эпигонской «гармонической точности» тот впустил прозы, за которой шевелилась жизнь. Стихи Слуцкого и вовсе балансируют на грани неуклюжей прозы. И от них разит жизнью, которую он за волосы втащил в поэзию. Не столь знаменитый, как предшественник, Слуцкий, я думаю, на многих повлиял. И продолжает влиять. Служит некой точкой опоры».
Он максимально усилил языковые возможности русского стиха. Дмитрий Сухарев говорил: «Слуцкий – самый крупный русский поэт XX века. Не только по объему сделанного, но и потому, что именно он довел до ума гигантскую реформу, которую начал Хлебников».
Игорь Волгин
Ещё один автор статьи в «Иерусалимском журнале» замечательный поэт и выдающийся исследователь литературы Игорь Волгин пишет: «Борис Слуцкий поразил наше поколение (да, наверное, и всех слышащих поэзию) прежде всего з в у к о м. Звук этот был предельно скуп в своём фонетическом объёме и одновременно бесконечно богат в объёме смысловом. Он тайно совпадал с акустикой века – не той, официально признанной, но – сокровенной, присутствовавшей в глубинах существования, в каждодневной жизни, однако пока ещё не воплощённой искусством. Даже когда речь у Слуцкого заходила о материях высоких, звук отнюдь не обретал пафосные обертона, а напротив, оставался в пределах обыденной, но преображённой поэтически речи. Самые трагические эпизоды, самые беспощадные коллизии великой войны, запечатлённые «непоэтическим», даже несколько стускленным языком, вдруг вызывали к жизни совершенно необычную эстетическую реальность…»
Гениальный графоман?
«Смесь великого поэта и неутомимого графомана» — сказал мне о подборке Игорь Бяльский (цитировал Олега Чухонцева). Графомана — в хорошем смысле слова — человека, который желает писать, которого влечет письменно фиксировать наблюдения, создавать образы, манит записывать мысли.
Редактор «Иерусалимского журнала» Игорь Бяльский
У Слуцкого более чем у кого либо другого из русских поэтов, писание стихов связано с рефлексией, наблюдением и осмыслением. И когда он писал, то писал много. Как неутомимый блогер или очень активный пользователь социальной сети. Но в отличие от них, живший в доинтернетную и подцензурную эпоху, Слуцкий в основном писал в стол.
Сколько всего он написал?
Для большинства поклонников творчества Слуцкого неожиданностью стало… что столько всего из его наследия ещё не напечатано.
Дмитрий Сухарев на страницах Иерусалимского журнала дает краткую историю вопроса: «В последние девять лет жизни, когда Слуцкий был тяжело болен и уже ничего не писал, его новые стихи регулярно появлялись в печати. Публикацию накопившихся рукописей поэт доверил тогда своему преданному поклоннику Юрию Леонардовичу Болдыреву (1934–1993). Саратовский книгочей и самиздатчик Болдырев ни в коем разе не мог считаться близким человеком, но выбора у Слуцкого не было, другого душеприказчика судьба ему не предложила. И Слуцкий питал к Ю. Л. благодарность, выказывал полнейшее дружелюбие. Разделим эти чувства и скажем сердечное спасибо скромному и симпатичному подвижнику, который в меру своих возможностей с достоинством тащил на горбу (на инвалидном с детства горбу!) добровольно взваленную ношу».
Потом умер Болдырев, не дожив даже до 60 лет. «Преждевременная кончина самого Болдырева естественно совпала с прекращением потока публикаций. Казалось, всё нормально: не может же поток быть неиссякаемым. Но мы тогда ошибались, источник не иссяк» — пишет Сухарев.
Полным собранием сочинений Слуцкого считался трехтомник стихов, подготовленный Болдаревым. Трехтомник — действительно удивляет масштабом. Но сам Болдырев, работая с тетрадями Слуцкого, подсчитал, что от поэта осталось четыре тысячи стихотворений. А в трехтомник вошла только тысяча…
Новый подвижник – Андрей Крамаренко
Инженер и бард Андрей Крамаренко, взявшись сочинять музыку на стихи Слуцкого, стал рыться в тетрадях. И обнаружил, что большая часть написанного им до сих пор не издана.
И источник вновь забил: «Несколько лет назад я решил проверить предположение, что не все стихи поэта опубликованы. Поиски оказались успешными…».
Кроме новых стихов, кроме набросков, которые помогают понять творческую лабораторию поэта, найдены начальные варианты стихов хорошо известных. Речь идет и о стихах, которых Слуцкому пришлось «улучшать» по требованию идеологической цензуры («Ни одно его стихотворение не обходилось без редакторского или даже цензурного членовредительства»- говорит Владимир Корнилов) и о разночтениях в стихах, которые были хитами самиздата.
Например, начиная с конца 50-годов, по рукам ходил знаменитый текст: «Евреи хлеба не сеют, Евреи в лавках торгуют».
Вот черновик варианта:
Халдеи хлеба не сеют
Работа издателей
Игорь Бяльский рассказывает: «В определенном смысле каждое из представленных в номере стихотворений можно назвать черновиком, потому что и перед самым выходом – подборки ли, книги – автор в очередной раз перечитывает стихи уже в почти полиграфическом виде, какие-то строки дописывает или, наоборот, убирает, меняет отдельные слова и знаки препинания на другие, которые в этот момент ему кажутся более точными.
Здесь мы имели дело с тетрадными записями, и нам самим (Крамаренко, Сухареву и мне, а затем и замечательнейшему корректору Галине Культиасовой) пришлось взять на себя ответственность расставлять недостающие и даже перерасставлять существовавшие знаки препинания, догадываться, какой из записанных вариантов тех или иных строк выбрал бы сам Борис Абрамович, и даже – хотя об этом неприлично говорить вслух – «отсекать» от печатаемого те строки, что мы (не всегда, замечу, в консенсусе) посчитали совсем предварительными набросками, стенографией замыслов, к которым Слуцкий в дальнейшем не возвращался».
«Карьеру вы не предали ни разу»
Вот стихи из подборки «Иерусалимского журнала» о тех, кто творили злодеяния в страшные времена, делая на этих преступлениях блестящие карьеры, а потом ссылались на «выполнение приказов», профессиональные требования, партийный долг и пр.
«Вы знали точно, где добро, где зло,
не хуже, чем где лево и где право.
Вы не имеете сегодня права
ссылаться на приказ и ремесло.
Вы ремесло избрали по себе.
Приказ? А что ж? Вам нравились приказы.
И, говоря сегодня о судьбе,
карьеру вы не предали ни разу.
Запрещено неведенье закона –
неведенье морали запретим».
С одной стороны видно, что это стихотворный набросок. И поэт, если бы готовил публикацию, скорее всего, его бы основательно доработал. С другой, нет никакого сомнения, что это текст, который должен быть опубликован, поскольку представляет самостоятельную ценность. Это стихи, которые могут и должны цитироваться.
Здесь каждая строка увесиста, поскольку опирается на много раз продуманное и лишь затем хорошо сформулированное. Каждая строка вызывает многочисленные ассоциации и цитаты из других текстов.
«Вы знали точно, где добро, где зло, не хуже, чем где лево и где право» — явная цитата из Библии — последний стих «Книги Ионы», где Господь говорит пророку о необходимости пожалеть жителей Ниневии, которые не отличают добра от зла, как правого от левого («וַאֲנִי לֹא אָחוּס עַל נִינְוֵה הָעִיר הַגְּדוֹלָה אֲשֶׁר יֶשׁ בָּהּ הַרְבֵּה מִשְׁתֵּים עֶשְׂרֵה רִבּוֹ אָדָם אֲשֶׁר לֹא יָדַע בֵּין יְמִינוֹ לִשְׂמֹאלוֹ וּבְהֵמָה רַבָּה»).
«Вы не имеете сегодня права ссылаться на приказ и ремесло» — ссылка на приговор Нюрнбергского процесса, постановившего, что исполнение явно преступного приказа — является преступлением.
Палачи любят ссылаться на ремесло — профессиональный долг. На злую судьбу. На то, что они действовали в рамках существовавших тогда в государстве законов.
Слуцкий отвечает, что профессию они выбирали себе сами, а творили преступления заботясь о себе и о своем профессиональном успехе. «Карьеру вы не предали ни разу».
Этический кодекс Слуцкого
Новую подборку любимого поэта хочется цитировать и запоминать наизусть. Во многом потому, что в них этический кодекс, который ты знал, читая его прежние стихи, здесь мысли, которые тебе приходили в голову, когда ты читал его прежние тексты.
«Конечно – капле продолбить
любую каменную толщу,
но только трудно каплей быть,
а камнем быть – удобней, проще».
Камнем, конечно, завсегда быть удобней и проще. Но надо быть каплей, которая долбит камни и прорывается, как стихи Слуцкого.
Позор русского литературоведения
Здесь надо сказать… Хотя нельзя не восхититься подвигом Юрия Леонардовича Болдырева и подвижничеством Андрея Крамаренко, вся тема связанная с наследием Бориса Слуцкого — одного из главных русских поэтов ХХ века — это позор российского литературоведения. И шире — русской филологии.
Конечно, работу их и других подвижников, которые беззаветно и бескорыстно взвалили на себя тяжкую ношу, переоценить нельзя. Но поэтическое наследие Слуцкого нуждается и в работе профессиональных текстологов, которые могли бы собрать, сверить варианты, сличить реакции. Нужен профессиональный подход, академическое изучение, текстологические исследования. За 32 года, которые прошли со времени смерти Слуцкого, профессиональные филологи до его архива не добрались.
И это позор…
Что можно было бы сделать?
К сожалению российские и российско-еврейские благотворительные организации, которые спонсируют культурные проекты, либо занимаются уютным междусобойчиком, либо тратят деньги на пышную показуху.
Если бы фонд «Генезис», например, вместо того, чтобы выделять миллион на премию Натали Портман (Блумбергу и прочим миллионерам и миллиардерам), которую Портман в результате отказалась получать, дал бы, хотя бы в десять раз меньшую сумму на увековечивание наследия великого поэта русскоязычного еврейства Бориса Абрамовича Слуцкого… Если бы…
Тогда можно было бы дать грант текстологам, для подготовки нового выверенного собрания сочинения Слуцкого. Тогда можно было бы осуществить мечту Игоря Бяльского:
«А сейчас – о мечтах.
В как можно более полном собрании сочинений Б. С., которое, очень надеюсь, в ближайшие годы станет доступным не только для текстологов и литературоведов, но и для всех ценителей поэзии Слуцкого, могут быть включены не только напечатанные в книгах и журналах тексты, но и отсканированные страницы тетрадей поэта.
Сегодняшние интернет-технологии позволят выстроить и разместить на виртуальных страницах стихи и хронологически (некоторые из них все же удается датировать, хотя бы и приблизительно, а отдельные – точно), и по алфавиту, и тематически (если у стихов, в принципе, может быть «тематика»). После этого заинтересованные волонтеры смогут откомментировать тексты – каждый по-своему и не мешая друг другу.
На вымечтанном этом сайте будут происходить и обсуждения самих стихов, и обсуждения комментариев тоже. И уже затем, когда с мешком подарков придет Дед Мороз, за работу – уважаемую и оплачиваемую – смогут взяться специалисты и профессионалы.
Крупные».
От себя бы добавил только одно. К полному собранию сочинений Слуцкого обязательно должны быть добавлены его переводы. Ведь переводил он много, профессионально и очень удачно. И в отличие от многих других поэтов-переводчиков, относился к переложению поэтических текстов не только как к заработку, но и как к высокому искусству: «Работаю с неслыханной охотою / Я только потому над переводами, / Что переводы кажутся пехотою, / Взрывающей валы между народами».