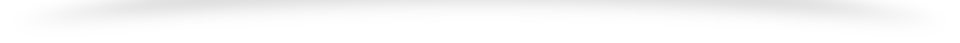«Королева Марго»
Книга поделена на шесть глав, что создаёт определённые неудобства при навигации, но что делать: литературно-винные исследования бывают нелегки.
Итак, Часть I. Глава III. Карл IX говорит:
«Вьейвиль любит только хорошее вино и способен продать своего короля за бочку мальвазии;…»
Что такое мальвазия, обсуждалось в рамках трилогии о мушкетёрах. Вижу здесь прямой намёк на англичан, топивших своих принцев в бочках с мальвазией. ) Вьейвиль в 1547 году был в Англии и мог узнать там, что такое мальвазия и как именно её употребляют англичане.
В главе IV появляются Ла Моль и Коконнас:
«– Черт побери! Ну и терпение у вас! – пробурчал пьемонтец, яростно закручивая рыжий ус и сверкая глазами. – Но берегись, мошенник! Если у тебя готовят скверно, постели жестки, вино выдержано в бутылках меньше трех лет, а слуга менее гибок, чем тростник…»
Тут опять анахронизм: в те времена вина в бутылках не выдерживали вообще (только в бочках) и то, что вино вообще выдерживали, свидетельствовало скорее о его низком качестве, чем о высоком (хорошее вино раскупали быстро, плохое приходилось хранить, что невыгодно). Ситуация изменилась лишь в конце XVII – начале XVIII века, с усовершенствованием технологий укупорки и хранения вин. Об этом подробно говорится в книгах Броделя об истории повседневной жизни позднего средневековья.
Вино, по-видимому, оказалось неплохим и в седьмой главе пьётся на ура, особенно Коконнасом, и Ла Юрьер готов подливать его ещё, дабы погубить Ла Моля:
«Когда Ла Моль и Коконнас закончили свой скудный ужин, – скудный, ибо в гостинице «Путеводная звезда» куры жарились только на вывеске, – Коконнас повернул на одной ножке свой стул, вытянул ноги, оперся локтем о стол и, допивая последний стакан вина, спросил:
– Господин де Ла Моль, хотите сейчас же лечь спать?»
«– Вам вина, граф? – спросил Ла Юрьер, хватая Коконнаса за руку. – Сейчас подадут. Грегуар! Вина господам!
Потом прошептал Коконнасу на ухо:
– Молчите! Молчите, или смерть вам! И спровадьте куда-нибудь вашего товарища».
Во второй части герои вино игнорируют, но далее, в части III, главе VI мы неожиданно обнаруживаем сходство во вкусах Коконнаса и д’Артаньяна:
«У Коконнаса были две предпосылки, необходимые для того, чтобы хорошо поужинать: спокойствие духа и пустой желудок, а потому ужинал он так хорошо, что досидел до восьми часов вечера. Подкрепившись двумя бутылками, легкого анжуйского вина, которое он очень любил и которое смаковал с наслаждением, проявлявшимся в подмигивании глазом и пощелкивании языком, он снова отправился разыскивать Ла Моля…»
И пьемонтец и гасконец оказались любителями лёгкого анжуйского вина! Того самого, белого винца из окрестностей Орлеана и Вандома, к которым относится и Божанси.
«– Черт побери! – воскликнул Коконнас. – Вино в «Путеводной звезде» не такое уж забористое, чтобы у меня так зашумело в голове».
Ну-ну!.. Мы-то помним, как подобное не такое уж забористое вино валило с ног даже Портоса. ) Впрочем, Коконнас молод, а вино Ла Юрьера, быть может, действительно не так забористо, как его родич из запасников Планше.
В главе IX Дюма намекает на то, что отравителям всех времён и народов легче всего пользоваться сладкими креплёными винами (которые он как правило и называет испанскими). Помнится, миледи использовала именно такое вино для г-жи Бонасье:
«Екатерина вышла из-за полога и, оглядев всю комнату, заметила на столике графин с испанским вином, фрукты, сладкое печенье и два бокала. Конечно, у баронессы ужинал Генрих, очевидно, чувствовавший себя так же хорошо, как и она».
Но сейчас опасность миновала. Никто никого не отравил – просто Генрих Наваррский тоже любит десертные испанские вина.
Часть IV. Глава VI. Здесь нам является ещё один знакомый персонаж:
«А в это время Ла Моль вместе с королевой переводил одну из идиллий Феокрита, Коконнас же, уверяя, что и он древний грек, вместе с герцогиней приналег на сиракузское вино» .
Это то самое сладкое вино, напоминающее марсалу, которое Фуке получил от бедняги д’Эмери. Со времён гибели Архимеда вина из Сиракуз не приносят счастья: и д’Эмери и Коконнас кончили плохо.
Десятая глава ставит всё с ног на голову. Теперь Ла Моль полюбил анжуйское вино, а у Коконнаса другие вкусы:
«– Ты так крепко спал, что, по правде говоря, мне не хотелось тебя будить. А знаешь что? Поужинай вместо обеда. Главное, не забудь спросить у Ла Юрьера того легкого анжуйского вина, которое он получил на днях.
– Хорошее?
– Одно могу сказать: прикажи, чтобы его подали.
– А ты куда?
– Я, – спросил Ла Моль, донельзя удивленный, что его друг задает ему этот вопрос. – Как куда? Ухаживать за моей королевой!
– Постой, постой! – сказал Коконнас. – А не пойти ли мне пообедать в наш домик на улицу Клош-Персе? Пообедаю остатками от вчерашнего, и кстати, там есть аликантское вино, которое хорошо подбадривает».
Аликанте – признанная столица валенсийских вин, в первую очередь москателя (сладкого муската), сухих вин из винограда Темпранильо (очень рекомендую!) и знаменитого ликёрного вина Фондильон. Кто из них бодрил Коконнаса – не знаю. По-моему, они все способны подбодрить не только горячего уроженца Пьемонта. ) По легенде, в свои последние годы пресыщенный всем на свете король-солнце Людовик XIV употреблял в пищу только смоченный в аликантском вине хлеб.
В главе XI будущий король Генрих III обвиняет в пьянстве своих будущих подданных-поляков:
«– А ну его, этот трон, матушка! – возразил с горечью Генрих. – Я не хочу уезжать! Я наследник французского престола, воспитанный в стране утонченных, учтивых нравов, под крылом лучшей из матерей, любимый одной из самых прекрасных женщин в мире, должен ехать неизвестно куда, в холодные снега, на край света, и медленно умирать среди грубиянов, которые пьянствуют с утра до ночи и судят о достоинствах своего короля, как о достоинствах винной бочки, – много ли он может вместить в себя вина! Нет, матушка, я не хочу уезжать, я там умру!»
Часть V. Глава IV. Ла Моль и Коконнас, оказывается, пьют и сладкое вино тоже!
«Разумеется, сознание того, что Ла Моль жив, уже кое-что значило; конечно, значило многое неизменно быть любимым герцогиней Неверской, самой веселой и самой взбалмошной женщиной на свете. Но и счастье свиданий наедине, какие дарила ему прекрасная герцогиня, и мир, который вносила в его душу Маргарита разговорами о судьбе их общего друга, не стоили в глазах пьемонтца и одного часа, проведенного с Ла Молем у их друга Ла Юрьера за кружкой сладкого вина, или одной из тех прогулок по глухим темным местам Парижа, где порядочный дворянин рисковал своей шкурой, своим кошельком или своим костюмом».
Вообще-то я удивлён: многие герои Дюма – винные сладкоежки. Кто-то просто предпочитает рюмочку на десерт или прикрывается заботой о пищеварении, а кто-то подсыпает в сладкое вино яд. )
В главе VI мы получаем дополнительные сведения о предпочтениях Генриха Наваррского. Уж он-то понимал толк в винах и прочих застольных удовольствиях:
«– Ого! Уж больно вы щедры, дворянин! – сказал Ла Юрьер, подозрительно глядя на Генриха.
– Нет. Но, намереваясь провести вечер и ночь в вашей гостинице, которую мне очень хвалил один дворянин, мой земляк, я пригласил поужинать со мной приятеля. У вас есть хорошее арбуасское вино?
– У меня есть такое, что лучше не пивал и сам Беарнец!
– Отлично! Я заплачу за него отдельно… А вот и мой гость!»
Городок Арбуа находится в регионе Франш-Конте и носит гордое звание винной столицы гор Юра. Местные красные и в меньшей степени белые вина пользуются заслуженной популярностью. Дюма выставляет им четыре балла по пятибалльной шкале, что, учитывая вечное соперничество монстров из Бургундии и Бордо, можно считать отличным результатом. Сейчас наиболее известны так называемые «жёлтые» (поэтические натуры говорят «коралловые») и «соломенные» вина Арбуа. Своим цветом первые из них обязаны грибковой плёнке (процесс, чем-то напоминающий производство хереса), образующейся в процессе созревания вина (до 15 лет). Соломенные вина делаются из подвяленных ягод и выдерживаются в бочках. Получается сладкое креплёное густое вино (а-ля «испанское» по терминологии Дюма). Вина Арбуа очень долго хранятся, и на винных фестивалях, регулярно проводящихся в городке, разнообразные безумцы прикупают за соответствующую цену вина двухсотлетней давности… Лично я – пас. За эти деньги можно спокойно пить отличное бургундское лет десять. ))
Больше в «Королеве Марго» вина не пьют, что и понятно: в последней части романа главным героям не до того. Но впереди нас ждёт «Графиня де Монсоро». Посмотрим, как изменится ситуация. Я не жду помощи от Дианы и Бюсси, но надеюсь на Шико и Горанфло. )
«Графиня де Монсоро»
Часть I.
В главе VI, не дождавшись активных действий от других персонажей, великолепный Шико командует:
«…Шико открыл дверь в переднюю и крикнул; «Эй, кто там есть!» Подбежал слуга.
— Король изменил свое решение, — сказал Шико, — он велел подать сюда изысканный ужин на две персоны, для него и для Сен-Люка. И советовал особое внимание обратить на вино. Теперь поторапливайтесь.
Слуга повернулся на каблуках и со всех ног помчался выполнять приказ Шико, ничуть не сомневаясь, что он исходит от самого короля».
Как будто бы прекрасно понимая, что не у всех читателей есть возможность в любой момент заказать изысканный ужин на две персоны, в следующей главе Дюма в лице Шико предлагает вариант для менее увесистых кошельков:
«Что касается Шико, то, устав размахивать плеткой и проголодавшись от этого непривычного физического упражнения, на которое его подвигнул король, он после Монмартрских ворот незаметно отделился от процессии вместе со своим дружком, братом Горанфло, тем самым монахом из монастыря святой Женевьевы, который собирался исповедовать Бюсси, завернул в садик одной харчевни, пользовавшейся отменной репутацией. Там приятели распили изрядное количество бутылок пряного вина и полакомились чирком, убитым в болотах Гранж-Бательер».
Стоячие болота Гранж-Бательер начинались буквально сразу за Монмартрскими воротами (до сих пор сохранилась одноимённая улица), так что чирок был убит буквально за углом. А что же вино? Пока запомним, что оно пряное, чуть позже Дюма назовёт и регион происхождения. В XVII главе Шико заказывает безымянное вино в трактире, продолжая в одиночку вытягивать «винную» тему:
«Однако у Шико, очевидно, имелись причины желать, чтобы вышеупомянутый толстяк его не увидел, поэтому гасконец вошел не в главную залу, а в комнату напротив, заказал бутылку вина и занял место, позволяющее беспрепятственно наблюдать за выходом из гостиницы».
В конце той же главы опять упоминается брат Горанфло и их совместная с Шико попойка, упомянутая ранее:
«Слова эти были вызваны воспоминанием об одном из самых почтенных монахов монастыря святой Женевьевы, обычном сотрапезнике гасконца в те дни, когда он обедал в городе, о монахе, с которым в день покаянной процессии Шико недурно провел время в кабачке возле Монмартрских ворот, поедая чирка и запивая его терпким вином».
Вино ранее называлось пряным, теперь оно тёрпкое. Но не будем придираться к терминам. Изрядно раззадоренные, мы подходим к главе XVIII. ГДЕ ЧИТАТЕЛЬ БУДЕТ ИМЕТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БРАТОМ ГОРАНФЛО, О КОТОРОМ УЖЕ ДВАЖДЫ ГОВОРИЛОСЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ НАШЕЙ ИСТОРИИ. Отличное название! Поначалу вино в этой прекрасной главе лишь стыдливо показывается в чаше «до краев полной водой, чуть подкрашенной несколькими каплями вина». Но потом идёт занимательный диалог:
» — Помните, как мы с вами прекрасно посидели последний раз, — обратился он к Горанфло, — там, в кабачке у Монмартрских ворот? Пока ваш славный король Генрих Третий бичевал себя и других, мы уничтожили чирка из болот Гранж-Бательер и раковый суп, а все это запили превосходным бургундским; как бишь оно называется? Не то ли это вино, которое открыли вы?
— Это романейское вино, вино моей родины, — сказал Горанфло.
— Да, да припоминаю; это то самое молочко, которое вы сосали в младенчестве, достойный сын Ноя. Горанфло с грустной улыбкой облизал губы.
— Ну и что вы скажете о тех бутылках, которые мы распили? — спросил Шико.
— Хорошее было вино, однако не из самых лучших сортов.
— Это же говорил как-то вечером и наш хозяин, Клод Бономе. Он утверждал, что в его погребе найдется с полсотни бутылок, перед которыми вино у его собрата с Монмартрских ворот просто выжимки.
— Чистая правда, — засвидетельствовал Горанфло».
Так-так. Романейское пряное-тёрпкое вино, оно же бургундское. Подозреваемое найдено. Интересный момент: в допетровской руси романейским (или просто романеей) называли красное (чаще всего сладкое) вино, ввозимое из Франции. Словарь Даля говорит: «сладкая настойка на фряжском вине». Романейское – дословно означает «римское». Сверился по французскому тексту романа – действительно романейское. Каким же образом слово «римское» ассоциируется с французским вином не только в дремучей в винном плане Руси, но и во французской литературе? Разгадка нашлась в специализированных статьях «для сомелье и продвинутых любителей». Слово Romanée действительно связано с римлянами и ассоциируется с бургундскими виноградниками с I века (тогда это была территория Римской империи). Фактически это всего лишь второе название бургундского вина в раннем средневековье. Некоторые винодельческие хозяйства до сих пор сохранили слово Romanée в своём названии: Vosne-Romanée, Romanée Conti. Последним владел в своё время принц Конти, кузен Людовика XV – отсюда и название. Дюма также называет Романэ-Конти лучшим из красных бургундских вин в своём «Кулинарном словаре» и ставит ему пять баллов из пяти возможных (на минуточку, в списке оно идёт выше даже шамбертена). Тёрпкость, упомянутая в романе, является их непременным атрибутом (как и большинства других бургундских вин). Не могу сказать того же о термине «пряность», которое также фигурировало, но я не сомелье и, наверное, чего-то не понимаю. Эти вина относятся к региону Кот д’Ор. Во времена Шико и Горанфло землями Кот д’Ор владело цистерианское аббатство Cîteaux, и, поскольку брат Горанфло оттуда родом, то, вполне вероятно, что он является представителем некоей церковной династии. )
Кстати, желающих попробовать хочу сразу предупредить, что романейское вино сейчас – одно из самых дорогих в мире: бутылочка скверного Romanée Conti обойдётся в 700-800 евро, а цена за лучшие образчики измеряется в десятках тысяч. Дескать, у этих вин самое длительное послевкусие, раскрываются они только через 15 лет хранения и бла-бла-бла… Как же, хранилось тогда вино по пятнадцать лет! Бродель цитирует торговый словарь даже более позднего, XVIII века: «вина, даже из Дижона, Нюи и Орлеана, самые пригодные для хранения, бывают испорчены, когда доходят до пятого или шестого листа» (т. е. года). Дижон и Нюи – это как раз тот самый «романейский» регион. Нет, нас не обманешь. Сам не пробовал и другим не посоветую; как убедительно докажут нам Шико и Горанфло в дальнейшем, нам ещё много чего можно попробовать и без романейского.
Завершит первую часть нашего исследования небольшое философское отступление на тему вина:
» — Всему свое время, брат мой, — сказал Горанфло. — Вино хорошо, если после того, как ты его выпьешь, тебе остается только славить господа, создавшего такую благодать. Но если ты должен выступать с речью, то вода предпочтительнее, не по вкусу, конечно, а по воздействию: facunda est aqua.
— Ба! — ответил Шико. — Magis facundum est vinum, и в доказательство я закажу бутылочку вашего романейского, хотя мне сегодня тоже выступать с речью. Я верю в чудотворную силу вина; по чести, Горанфло, посоветуйте, какую закуску мне к нему взять».
Пусть тут не затронуты сорта, послевкусие и прочие тонкости для ценителей, зато подобные слова способны заставить многих трезвенников изменить своим принципам, что само по себе недурно. Следует скромный заказ, как раз для тех, кто готовится произносить речи:
» — Мэтр Клод, принесите мне две бутылки того романейского вина, которое,
по вашим словам, у вас лучшего сорта, чем где бы то ни было.
— Две бутылки! — удивился Горанфло. — Зачем две? Ведь я не буду пить.
— Если бы вы пили, я заказал бы четыре бутылки, я заказал бы шесть
бутылок, я заказал бы все бутылки, сколько их ни на есть в погребе. Но раз я пью один, двух бутылок мне хватит, ведь я питух никудышный».
Грандиозная сцена дегустации ждёт нас далее в главе XVIII . Не могу отказать в удовольствии привести её без купюр:
«Шико осушил стакан и прищелкнул языком.
— Ах! — сказал он. — Я бездарный дегустатор, у моего языка совершенно нет памяти; я не могу определить, хуже или лучше это вино того, что мы пили у Монмартрских ворот. Я даже не уверен, что это то самое вино.
Глаза брата Горанфло засверкали при виде нескольких капелек рубиновой влаги, оставшихся на дне стакана Шико.
— Держите, брат мой, — сказал Шико, налив с наперсток вина в стакан монаха, — вы посланы в сей мир, дабы служить ближнему; наставьте же меня на путь истинный.
Горанфло взял стакан, поднес к губам и, смакуя, медленно процедил сквозь зубы его содержимое.
— Нет сомнения, это вино того же сорта, — изрек он, — но…
— Но?.. — повторил Шико.
— Но его тут было слишком мало, чтобы я мог сказать, хуже оно или лучше монмартрского.
— А я все же хотел бы это знать. Чума на мою голову! Я не хочу быть обманутым, и если бы вам, брат мой, не предстояло произносить речь, я попросил бы вас еще раз продегустировать это вино.
— Ну разве только ради вас, — сказал монах.
— Черт побери! — заключил Шико и наполнил стакан до половины.
Горанфло с не меньшим уважением, чем в первый раз, поднес стакан к губам и просмаковал вино с таким же сознанием ответственности.
— Это лучше! — вынес он приговор. — Это лучше. Я ручаюсь.
— Ба, да вы сговорились с нашим хозяином.
— Настоящий питух, — изрек Горанфло, — должен по первому глотку
определять сорт вина, по второму — марку, по третьему — год.
— О! Год! Как бы я хотел узнать, какого года это вино.
— Нет ничего легче, — сказал Горанфло, протягивая стакан, — капните мне сюда. Капли две, не больше, и я вам скажу.
Шико наполнил стакан на три четверти, и монах медленно, но не отрываясь, осушил его.
— Одна тысяча пятьсот шестьдесят первого, — произнес он, ставя стакан на стол.
— Слава! — воскликнул Клод Бономе. — Тысяча пятьсот шестьдесят первого года, именно так.
— Брат Горанфло, — сказал Шико, снимая шляпу, — в Риме понаделали много святых, которые и мизинца вашего не стоят».
Современные дегустации подчинены определённому этикету, а термины, которыми оперируют профессиональные сомелье, сведены в специальные словари. Но мало кто достиг успехов брата Горанфло. ) Дюма в своём «Кулинарном словаре» лаконично говорит, что хорошие дегустаторы крайне редки. Пожалуй, самый известный пример дегустации вин в средние века – это знаменитая «Битва вин» при Филиппе Августе, воспетая Анри д’Андели в 1224 году. В состязании участвовали более 70 вин из разных уголков Европы, практически все белые. Победителем было признано сладкое кипрское вино, что мы оставим на совести судьи – английского священника. Он-то точно не стоил и мизинца Горанфло. Но нам пора вернуться к нашим героям. Ниже Шико и Горанфло поначалу используют опробованное романейское вино не по назначению: им за неимением воды окропляют курицу, нарекая её карпом, дабы не оскоромиться. Трапеза идёт на поправку и монах говорит, что «винцо забористое». Не буду приводить дальнейшие свидетельства произошедшей вакханалии…разве что фрагментами:
«- Постойте, не забудьте принести еще пару бутылок вашего замечательного романейского вина, урожая тысяча пятьсот шестьдесят первого года».
«Шико положил на тарелку монаха сардину и передал ему вторую бутылку».
«- Что за чудесное вино, — сказал он, откупоривая третью бутылку».
«- Ну и на здоровье, пускай себе закрывается, — произнес монах, разглядывая пламя свечи через стакан, наполненный рубиновым вином, — пусть закрывается, у меня есть ключ».
Вот и подоспело окончательное подтверждение того, что вино красное. Впрочем, Горанфло уже основательно напился, несмотря на закуску. Наверное, его сгубило то, что бедняга с утра постился. Отмечаем, что результат был достигнут вроде бы с пяти бутылок (Шико почти не пил): что ж, вполне вероятно, даже учитывая меньший объём бутылок в те времена. Напомню и про то, что в бутылках тогда вино не хранили – оставляем этот привычный для Дюма анахронизм за скобками.
Отдохнём немного от чрезмерных возлияний и увидим, что в XXII главе супруги Сен-Люк используют вино в благих целях:
«…по прошествии получаса оба путешественника, уже на свежих лошадях, выехали из задних ворот постоялого двора, выходивших в открытое поле, и щеки их пылали ярким румянцем, свидетельствовавшим о пользительности бокала теплого вина, выпитого на дорогу».
Через одну главу Бюсси встречает в Париже отца Дианы:
«Барону подали графский позолоченный кубок, и Бюсси, выполняя обряд гостеприимства, пожелал собственноручно налить ему вина.
— Благодарствую, благодарствую, сударь, — сказал старик, — но скоро ли мы отправимся туда, куда должны пойти?»
Жаль, что неизвестно, каким таким вином потчевал Бюсси своего возможного тестя из позолоченного кубка…
В главе XXVI очередная великолепная фраза от брата Горанфло:
» — Несомненно, что человек сильнее вина; брат Горанфло боролся с вином, как Иаков с ангелом, и брат Горанфло победил вино».
Параллельно достойный монах постоянно выказывает заботу о виноградниках, которые, как он беспокоится, помёрзнут при таком холоде. Подумайте, много ли пьяниц в нынешнее время беспокоится о производителях спиртного и его качестве? Брата Горанфло и пьяницей-то называть стыдно… Он просто несомненный представитель раблезианской эпохи, что доказывает песенка, спетая им при виде вывески со словами «Здесь: ветчина, яйца, паштет из угрей и белое вино». Вот этот замечательный образчик:
» Когда осла ты расседлал,
Когда бутылку в руки взял,
Осел на луг несется,
Вино в стаканы льется.
Но в городе и на селе
Счастливей нет монаха,
Когда монах навеселе
Пьет и пьет без страха.
Он пьет за деньги и за так,
И дом родной ему кабак».
И вместе с Шико можно повторить: «Отлично сказано!» А как было грустно поначалу!
Глава 33
ГДЕ РЕЧЬ ИДЕТ О ДВУХ ВАЖНЫХ ГЕРОЯХ ЭТОЙ ИСТОРИИ, КОТОРЫХ ЧИТАТЕЛЬ С НЕКОТОРЫХ ПОР ПОТЕРЯЛ ИЗ ВИДУ
В нашей истории есть один герой, вернее даже два героя, о чьих деяниях и подвигах читатель вправе потребовать у нас отчета. Со смирением автора старинного предисловия мы спешим предупредить эти вопросы, вся важность которых нам совершенно очевидна. Речь идет прежде всего о дюжем монахе с лохматыми бровями, толстыми, красными губами, большими руками, широкими плечами и шеей, становящейся все короче по мере того, как увеличиваются в размерах его грудь и щеки. Речь идет затем об очень крупном осле с приятно округлыми и раздувшимися боками. Монах с каждым днем все больше напоминает бочонок, подпертый двумя бревнами. Осел смахивает уже на детскую колыбельку, поставленную на четыре веретена. Первый живет в одной из келий монастыря святой Женевьевы, где всевышний осыпает его своими милостями. Второй обитает в конюшнях того же монастыря, где перед ним стоит всегда полная кормушка. Первый отзывается на имя Горанфло. Второй должен бы отзываться на имя Панург. Оба наслаждаются, во всяком случае в настоящую минуту, самым большим благоденствием, о котором только может мечтать любой осел и любой монах. Монахи монастыря святой Женевьевы окружают своего знаменитого собрата заботами, и, подобно тому как третьестепенные божества ухаживали за орлом Юпитера, павлином Юноны и голубками Венеры, святые братья раскармливают Панурга в честь его господина. В кухне аббатства не угасает очаг, вино из самых прославленных виноградников Бургундии льется в самые большие бокалы. Возвращается ли миссионер из дальних краев, где он распространял веру Христову, прибывает ли тайный легат папы с индульгенциями от его святейшества, им обязательно показывают Горанфло — этот двуединый образ церкви проповедующей и церкви воинствующей, этого монаха, который владеет словом, как святой Лука, и шпагой, как святой Павел. Им показывают Горанфло во всем его блеске, то есть во время пиршества: в столешнице одного из столов сделали выемку для его священного чрева, и все преисполняются благородной гордости, показывая святому путешественнику, как Горанфло один заглатывает порцию, которой хватило бы восьми самым ненасытным едокам монастыря. И когда вновь прибывший вдоволь насладится благоговейным созерцанием этого чуда, приор складывает молитвенно руки, воздевает глаза к небу и говорит: — Какая замечательная натура! Брат Горанфло не только любит хороший стол, но он еще и весьма одаренный человек. Вы видите, как он вкушает пищу?! Ах, если бы вы слышали проповедь, которую он произнес однажды ночью, проповедь, в которой он предложил себя в жертву ради торжества святой веры! Эти уста глаголят, как уста святого Иоанна Златоуста, и поглощают, как уста Гаргантюа. Тем не менее иной раз, посреди всего этого великолепия, на чело Горанфло набегает облачко: куры и индейки из Мана тщетно благоухают перед его широкими ноздрями, маленькие фландрские устрицы, тысячу которых он заглатывает играючи, томятся в своих перламутровых раковинах, бутылки самых разнообразных форм остаются полными, несмотря на то что пробки из них уже вынуты. Горанфло мрачен, Горанфло не хочет есть, Горанфло мечтает. Тогда по трапезной проносится шепот, что достойный монах впал в экстаз, как святой Франциск, или лишился чувств, как святая Тереза, и общее восхищение удваивается. Это уже не монах, это — святой, это уже даже не святой, это полубог. Иные доходят до утверждения, что это сам бог во плоти. — Тс-с! — шепчут вокруг. — Не будем нарушать видений брата Горанфло. И все почтительно расходятся. Один приор остается ждать той минуты, когда брат Горанфло подаст какие-либо признаки жизни. Тогда он приближается к монаху, ласково берет его за руку и уважительно заговаривает с ним. Горанфло поднимает голову а смотрит на приора бессмысленным взором. Он возвратился из иного мира. — Чем вы были заняты, достойный брат мой? — спрашивает приор. — Я? — говорит Горанфло. — Да, вы. Вы были чем-то заняты. — Да, отец мой, я сочинял проповедь, — Вроде той, с которой вы так отважно выступили в ночь святой Лиги? Каждый раз, когда ему говорят об этой проповеди, Горанфло оплакивает свою немощь. — Да, — отвечает он, вздыхая, — в том же роде. Ах, какое несчастье, что я не записал ее. — Разве человек, подобный вам, дорогой брат мой, нуждается в том, чтобы записывать? Нет, он глаголет по вдохновению свыше. Он разверзает уста, и, поелику слово божие заключено в нем, уста его изрекают слово божие. — Вы так думаете? — спрашивает Горанфло. — Блажен тот, кто сомневается, — отвечает приор. Время от времени Горанфло, понимающий, что положение обязывает, и к тому же понуждаемый примером своих предшественников, и в самом деле начинает обдумывать проповедь. Что там Марк Тулий Цезарь, святой Григорий, святой Августин, святой Иероним и Тертуллиан! С Горанфло начнется возрождение духовного красноречия. Reruin novus ordo nascitur «Рождается новый порядок вещей (лат.).». И также время от времени, по окончании своей трапезы или посредине своего экстаза, Горанфло встает и, словно подталкиваемый невидимой рукой, идет прямо в конюшни. Придя туда, он с любовью взирает на ревущего от удовольствия Панурга, затем проводит своей тяжелой пятерней по густой шерсти, в которой его толстые пальцы скрываются целиком. Теперь это уже больше чем удовольствие, это — счастье: Панург уже не ограничивается ревом, он катается по земле. Приор и три-четыре высших монастырских чина обычно сопровождают Горанфло в его прогулках и пристают к Панургу с разной ерундой: один предлагает ему пирожные, другой — бисквиты, третий — макароны, как в былые времена те, кто хотел завоевать расположение Плутона, предлагали медовые пряники Церберу. Панург предоставляет им свободу действий — у него покладистый характер. Он, у которого не бывает экстазов, кому не надо придумывать проповеди, не надо заботиться о сохранении за собой иной репутации, чем репутация упрямца, лентяя и сластолюбца, считает, что ему больше нечего желать и что он самый счастливый из всех ослов. Приор глядит на него с нежностью. — Прост и кроток, — говорит он, — сии добродетели свойственны сильным. Горанфло усвоил, что по-латыни «да» будет «ita». Это его очень выручает: на все, что ему говорят, он ответствует «ita» с тем самодовольным видом, который неизменно производит впечатление. Поощренный постоянным согласием Горанфло, приор иногда говорит ему: — Вы слишком много трудитесь, брат мой, это порождает печаль в вашем сердце. И Горанфло отвечает достопочтенному Жозефу Фулону так же, как иной раз Шико отвечает его величеству Генриху III: — Кто знает? — Быть может, наши трапезы немного тяжелы для вас, — добавляет приор. — Не угодно ли вам, чтобы мы сменили брата повара? Вы же знаете, дорогой брат: quoedam saturationes minus succedunt «Некоторые блюда удаются меньше (лат.)». — Ita, — твердит Горанфло и с новым жаром ласкает своего осла. — Вы слишком много ласкаете вашего Панурга, брат мой, — говорит приор, — вас снова может одолеть тяга к странствиям. — О! — отвечает на это Горанфло со вздохом. По правде говоря, воспоминание о странствиях и мучит Горанфло. Он, воспринявший сначала свое изгнание из монастыря как огромное несчастье, открыл затем в этом изгнании бесчисленные и дотоле неведомые ему радости, источником которых была свобода. И теперь, в самый разгар своего блаженства, он чувствует, что жажда свободной жизни, словно червяк, точит его сердце, — свободной жизни вместе с Шико, веселым собутыльником, с Шико, которого он любит, сам не зная почему, может быть, потому, что тот время от времени дает ему взбучку. — Увы! — робко замечает молодой монашек, наблюдавший за игрой лица Горанфло. — Я думаю, вы правы, достопочтенный приор: пребывание в монастыре тяготит преподобного отца. — Не то чтобы тяготит, — говорит Горанфло, — но я чувствую, что рожден для жизни в борьбе, для политических выступлений на площадях, для проповедей на улицах. При этих словах глаза Горанфло вспыхивают: он вспоминает об яичницах Шико, об анжуйском вине мэтра Клода Бономе, о нижней зале «Рога изобилия». Со времени вечера Лиги или, вернее, с утра следующего после него дня, когда Горанфло возвратился в свой монастырь, ему не разрешали выходить на улицу. С тех пор как король объявил себя главой Союза, лигисты удвоили свою осторожность. Горанфло был так прост, что ему даже в голову не пришло воспользоваться своим положением и заставить отворить себе двери. Ему сказали: — Брат, выходить запрещено. И он не выходил. Не оставалось больше сомнений относительно того, что за внутренний огонь снедает Горанфло, отравляя ему счастье монастырской жизни. Поэтому, видя, что печаль его со дня на день растет, приор однажды утром сказал монаху: — Дражайший брат, никто не имеет права подавлять свое призвание. Ваше — состоит в том, чтобы сражаться за Христа. Так идите же, выполняйте миссию, возложенную на вас всевышним, но только берегите вашу драгоценную жизнь и возвращайтесь обратно к великому дню. — Какому великому дню? — спросил Горанфло, поглощенный своей радостью. — К дню праздника святых даров. — Ita! — произнес монах с чрезвычайно умным видом. — Но, — добавил он, — дайте мне немного денег для того, чтобы я, как подобает христианину, черпал вдохновение в раздаче милостыни. Приор поспешил отправиться за большим кошельком, который он и раскрыл перед Горанфло. Горанфло запустил в него свою пятерню. — Вот увидите, сколько пользы принесу я монастырю, — сказал он и спрятал в огромный карман своей рясы то, что почерпнул в кошельке приора. — У вас есть текст для проповеди, не правда ли, дражайший брат? спросил Жозеф Фулон. — Разумеется. — Поверьте его мне. — Охотно, но только вам одному. Приор подошел поближе и, исполненный внимания, подставил Горанфло свое ухо. — Слушайте. — Я слушаю. — Цеп, бьющий зерно, бьет себя самого, — шепнул Горанфло. — Замечательно! Прекрасно! — вскричал приор. И присутствующие, разделяя на веру восхищение достопочтенного Жозефа Фулона, повторили вслед за ним: «Замечательно, прекрасно!» — А теперь я могу идти, отец мой? — смиренно спросил Горанфло. — Да, сын мой, — воскликнул почтенный аббат, — ступайте и следуйте путем господним. Горанфло распорядился оседлать Панурга, взобрался на него с помощью двух могучих монахов и около семи часов вечера выехал из монастыря. Это было как раз в тот день, когда Сен-Люк возвратился в Париж. Город был взбудоражен известиями, полученными из Анжу. Горанфло проехал по улице Сент-Этьен и только успел свернуть направо и миновать монастырь якобинцев, как внезапно Панург весь задрожал: чья-то мощная рука тяжело опустилась на его круп. — Кто там? — воскликнул испуганный Горанфло. — Друг, — ответил голос, показавшийся Горанфло знакомым. Горанфло очень хотелось обернуться, но, подобно морякам, которые каждый раз, когда они выходят в море, вынуждены заново приучать свои ноги к бортовой качке, Горанфло каждый раз, когда он садился на своего осла, должен был затрачивать некоторое время на то, чтобы обрести равновесие. — Что вам надо? — сказал он. — Не соблаговолите ли вы, почтенный брат, — ответил голос, — указать мне путь к «Рогу изобилия»? — Разрази господь! — вскричал Горанфло в полном восторге. — Да это господин Шико собственной персоной! — Он самый, — откликнулся гасконец, — я шел к вам в монастырь, мой дорогой брат, и увидел, что вы выезжаете оттуда. Некоторое время я следовал за вами, боясь, что выдам себя, если заговорю. Но теперь, когда мы совсем одни, я к вашим услугам. Здорово, долгополый! Клянусь святым чревом, ты, по-моему, отощал. — А вы, господин Шико, вы, по-моему, округлились, даю честное слово. — Я думаю, мы оба льстим друг другу. — Но что такое вы несете, господин Шико? — поинтересовался монах. Ноша у вас как будто порядком тяжелая. — Это задняя часть оленя, которую я стащил у его величества, ответил гасконец, — мы сделаем из нее жаркое. — Дорогой господин Шико! — возопил монах. — А под другой рукой у вас что? — Бутылка кипрского вина, которую один король прислал моему королю. — Покажите-ка, — сказал Горанфло. — Это вино как раз по мне, я его очень люблю, — сказал Шико, распахивая свой плащ, — а ты, святой брат? — О! О! — воскликнул Горанфло, увидев два нежданных дара, и от восторга так запрыгал на своем скакуне, что у Панурга подкосились ноги. О! О! На радостях монах воздел к небу руки и голосом, от которого задрожали оконные стекла по обе стороны улицы, запел песню. Панург аккомпанировал ему своим ревой.
О том, как брат Горанфло обменял своего осла на мула, а мула – на коня
Мытарства Горанфло, по крайней мере в этот день, подходили к концу: сделав крюк, два друга снова выехали на большую дорогу и остановились на постоялом дворе, соперничающем с тем придорожным приютом, который они объехали, и удаленным от него на расстояние три четверти лье.
Шико занял комнату, выходившую на дорогу, и распорядился, чтобы ужин был подан в комнату. По всему было видно, что пища не являлась для гасконца первостепенной заботой. Зубами он работал вполсилы, зато смотрел во все глаза и слушал во все уши. Так продолжалось до девяти часов; поскольку к этому часу Шико не увидел и не услышал ничего подозрительного, он снял осаду, наказал засыпать своему коню и ослу монаха двойную порцию овса и отрубей и оседлать их, как только засветает.
Услышав этот наказ, Горанфло, который уже битый час казался спящим, а на самом деле пребывал в состоянии сладостной истомы, вызываемой сытным обедом, орошенным достаточным количеством бутылок доброго вина, тяжело вздохнул.
– Как только засветает? – переспросил он.
– Э, клянусь святым чревом! – сказал Шико. – Ты должен иметь привычку подниматься с рассветом.
– Почему? – поинтересовался Горанфло.
– А утренние мессы?
– Аббат освободил меня от них по слабости здоровья, – ответил монах.
Шико пожал плечами и произнес одно лишь слово: «Бездельник», прибавив к его окончанию букву «и», которая, как известно, является признаком множественного числа.
– Ну да, бездельники, – согласился Горанфло, – конечно, бездельники. А почему бы и нет?
– Человек рожден для труда, – наставительно сказал гасконец.
– А монах для отдохновения, – возразил брат Горанфло, – монах – исключение из рода человеческого.
И, довольный этим доводом, сразившим, по-видимому, даже самого Шико, Горанфло с великим достоинством вышел из-за стола и улегся в постель, которую Шико из страха, как бы монах не допустил какой-нибудь оплошности, приказал поставить в своей комнате.
И в самом деле, если бы брат Горанфло не спал таким крепким сном, то он мог бы увидеть, как Шико, едва рассвело, встал с постели, подошел к окну и, укрывшись за портьерой, принялся наблюдать за дорогой.
Вдруг он отпрянул от окна, несмотря на свою портьеру, и проснись брат Горанфло в эту минуту, он услышал бы, как стучат подковы трех мулов по вымощенной булыжником дороге.
Шико тут же подскочил к спящему монаху и принялся трясти его за плечо, пока тот не проснулся.
– Неужели мне не дадут ни минуты покоя? – забормотал Горанфло, проспавший десять часов кряду.
– Вставай, вставай, – торопил Шико. – Быстро, одеваемся и едем.
– А завтрак? – осведомился монах.
– Ждет нас на дороге в Монтеро.
– Что это такое – Монтеро? – спросил монах, совершенно невежественный в географии.
– Монтеро, – ответил гасконец, – это город, где завтракают. Вам этого довольно?
– Да, – коротко отозвался Горанфло.
– Тогда, куманек, – сказал Шико, – я спущусь вниз расплатиться за нас и за наших животных. Если через пять минут вы не будете готовы, я уеду без вас.
Утренний туалет монаха недолог, но у Горанфло он все же занял шесть минут. Поэтому, выйдя из ворот постоялого двора, он увидел, что Шико, пунктуальный, как швейцарец, уже скачет по дороге. Горанфло взобрался на Панурга, а Панург, воодушевленный двойной порцией овса и отрубей, которую ему отпустили по приказанию Шико, сам, не дожидаясь ничьих указаний, взял с места галопом и вскоре скакал бок о бок с лошадью Шико.
Гасконец стоял на стременах, прямой, как жердь.
Горанфло также привстал и увидел на горизонте трех мулов, исчезающих за гребнем холма.
Монах тяжело вздохнул, подумав: как это печально, что его судьба зависит от чьей-то чужой воли.
На этот раз Шико сдержал слово: они позавтракали в Монтеро.
Весь день был похож на предыдущий, как одна капля воды на другую, да и следующий день прошел примерно одинаково. Поэтому мы смело можем опустить подробности. Горанфло, плохо ли, хорошо ли, но уже начинал привыкать к кочевому образу жизни, когда на четвертые сутки к вечеру он заметил, что Шико постепенно утрачивает свою обычную веселость. Уже с полудня гасконец потерял всякий след трех всадников на мулах, поэтому он поужинал в дурном настроении и плохо спал ночью.
Горанфло ел и пил за двоих, распевал свои лучшие песенки, но Шико оставался мрачным и в разговоры не вступал.
Едва рассвело, он был уже на ногах и расталкивал своего спутника. Монах оделся, и от самых ворот они поскакали рысью, а вскоре перешли на бешеный галоп.
Но все было напрасно – мулы не появлялись на горизонте.
К полудню и конь и осел выбились из сил.
На мосту Вильнев-ле-Руа Шико подошел к будке сборщика мостовой пошлины со всех тварей, имеющих копыта.
– Вы не видели трех всадников на мулах? – спросил он. – Они должны были проехать нынче утром.
– Нынче утром не проезжали, сударь, – ответил сборщик. – Они проехали вчера рано вечером.
– Вчера?
– Да, вчера вечером, в семь часов.
– Вы их приметили?
– Проклятие! Как обычно примечают проезжающих.
– Я вас спрашиваю, не помните ли вы, что это были за люди?
– Мне показалось, что один из них господин, остальные двое – лакеи.
– Это они, – сказал Шико.
И дал сборщику экю.
Затем пробормотал про себя:
– Вчера вечером, в семь часов. Клянусь святым чревом, они обогнали меня на двенадцать часов! Мужайся, друг Горанфло!
– Послушайте, господин Шико, – сказал монах, – я-то еще держусь, но Панург уже совсем с ног валится.
Действительно, бедное животное, выбившееся из сил за последних два дня, дрожало всем телом, и эта дрожь невольно сообщалась его всаднику.
– Да и ваша лошадь, – продолжал Горанфло, – посмотрите, в каком она состоянии.
И вправду, благородный скакун, каким бы он ни был горячим, а может быть, именно поэтому, был весь в пене, густой пар валил из его ноздрей, а из глаз, казалось, вот-вот брызнет кровь.
Шико, быстро осмотрев обоих животных, по-видимому, согласился с мнением своего товарища.
Горанфло облегченно вздохнул.
– Слушайте, брат сборщик, – сказал Шико, – мы должны сейчас принять великое решение.
– Но вот уже несколько дней, как мы только этим и занимаемся! – воскликнул Горанфло, лицо которого вытянулось еще прежде, чем он услышал, что ему грозит.
– Мы должны расстаться, – сказал Шико, хватая, как говорится, быка за рога.
– Ну вот, – сказал Горанфло, – вечно все та же шутка! А зачем нам расставаться?
– Вы слишком медлительны, куманек.
– Клянусь богоматерью! – воскликнул Горанфло. – Я несусь как ветер, нынче утром мы скакали галопом пять часов кряду.
– И все же этого недостаточно.
– Тогда поехали, быстрей поедешь, скорей прибудешь. Ведь я предполагаю, что мы в конце концов куда-нибудь да прибудем?
– Моя лошадь не может идти, и ваш осел отказывается от службы.
– Тогда что же делать?
– Оставим их здесь и заберем на обратном пути.
– Ну а мы сами? Вы что, хотите тащиться пешедралом?
– Мы поедем на мулах.
– А где их взять?
– Мы их купим.
– Ну вот, – вздохнул Горанфло, – опять расходы.
– Итак?
– Итак, поехали на мулах.
– Браво, куманек, вы начинаете образовываться. Поручите Баярда и Панурга заботам хозяина, а я пойду за мулами.
Горанфло старательно выполнил данное ему поручение: за четыре дня, проведенные им с Панургом, он оценил если не достоинства осла, то, во всяком случае, его недостатки. Монах заметил, что тремя главными недостатками, присущими Панургу, были три порока, к которым он и сам имел наклонность, а именно: леность, чревоугодие и сластолюбие. Это наблюдение тронуло сердце монаха, и он не без сожаления расставался со своим ослом. Однако брат Горанфло был не только лентяй, обжора и бабник, прежде всего он был эгоистом и потому предпочитал скорее расстаться с Панургом, чем распрощаться с Шико, ибо в кармане последнего, как мы уже говорили, лежал кошелек.
Шико вернулся с двумя мулами, на которых они в этот день покрыли расстояние в двадцать лье; вечером он с радостью увидел трех мулов, стоявших у дверей кузницы.
– Ах! – впервые вырвался у него вздох облегчения.
– Ах! – вслед за ним вздохнул Горанфло.
Но наметанный глаз Шико подметил, что на мулах нет сбруи, а возле них – господина и его двух лакеев. Мулы стояли в своем природном наряде, то есть с них было снято все, что можно было снять, а что касается до господина и лакеев, то они исчезли.
Более того, вокруг мулов толпились неизвестные люди, которые их осматривали и, по-видимому, оценивали. Здесь были: лошадиный барышник, кузнец и два монаха-францисканца; они вертели бедных животных из стороны в сторону, смотрели им в зубы, заглядывали в уши, щупали ноги; одним словом – всесторонне изучали.
Дрожь пробежала по телу Шико.
– Шагай туда, – сказал он Горанфло, – подойди к францисканцам, отведи их в сторону и хорошенько расспроси. Я надеюсь, что у монахов не может быть секретов от монаха. Незаметно выведай у них, откуда взялись эти мулы, какую цену за них просят и куда девались их хозяева, потом вернешься и все мне расскажешь.
Горанфло, обеспокоенный тревожным состоянием своего друга, крупной рысью погнал своего мула к кузнице и спустя несколько минут вернулся.
– Вот и всего делов, – сказал он. – Во-первых, знаете ли вы, где мы находимся?
– А, смерть Христова! Мы едем по дороге в Лион, – сказал Шико, – и это единственное, что мне нужно знать.
– Пусть так, но вам еще нужно знать, по крайней мере вы так говорили, куда подевались хозяева этих мулов.
– Ну да, выкладывай.
– Тот, что смахивает на дворянина…
– Ну, ну!
– Тот, что смахивает на дворянина, поехал отсюда в Авиньон по короткой дороге через Шато-Шинон и Прива.
– Один?
– Как один?
– Я спрашиваю, он один свернул на Авиньон?
– Нет, с лакеем.
– А другой лакей?
– А другой лакей поехал дальше, по старой дороге.
– В Лион?
– В Лион.
– Чудесно. А почему дворянин поехал в Авиньон? Я полагал, что он едет в Рим. Однако, – задумчиво сказал Шико, словно разговаривая сам с собой, – я у тебя спрашиваю то, чего ты не можешь знать.
– А вот и нет… Я знаю, – ответил Горанфло. – Ну и удивлю же я вас!
– А что ты знаешь?
– Он едет в Авиньон, потому что его святейшество папа послал в Авиньон легата, которому доверил все полномочия.
– Добро, – сказал Шико, – все ясно… А мулы?
– Мулы устали; они их продали кузнецу, а тот хочет перепродать францисканцам.
– За сколько?
– По пятнадцати пистолей за голову.
– На чем же они поехали?
– Купили лошадей.
– У кого?
– У капитана рейтаров, он занимается здесь ремонтом.
– Клянусь святым чревом, куманек! – воскликнул Шико. – Ты драгоценный человек, только сегодня я тебя оценил по-настоящему!
Горанфло самодовольно осклабился.
– Теперь, – продолжал Шико, – заверши то, что ты так прекрасно начал.
– Что я должен сделать?
Шико спешился и вложил узду своего мула в руку Горанфло.
– Возьми наших мулов и предложи их обоих францисканцам за двадцать пистолей. Они должны отдать тебе предпочтение.
– И они мне его отдадут, – заверил Горанфло, – иначе я донесу на них ихнему аббату.
– Браво, куманек, ты уже образовался.
– Ну а мы, – спросил Горанфло, – мы-то на чем поедем?
– На конях, смерть Христова, на конях!
– Вот дьявол! – выругался монах, почесывая ухо.
– Полно, – сказал Шико, – ты такой наездник!
– Как когда, – вздохнул Горанфло. – Но где я вас найду?
– На городской площади.
– Ждите меня там.
И монах решительным шагом направился к францисканцам, в то время как Шико боковой улочкой вышел на главную площадь маленького городка.
Там на постоялом дворе под вывеской «Отважный петух» он нашел капитана рейтаров, распивавшего прелестное легкое оксерское вино, которое доморощенные знатоки путают с бургундским. Капитан сообщил гасконцу дополнительные сведения, по всем пунктам подтверждавшие донесение Горанфло.
Шико незамедлительно договорился с ремонтером о двух лошадях, и бравый капитан тут же внес их в список павших в пути. Благодаря такому непредвиденному падежу Шико смог заполучить двух коней за тридцать пять пистолей.
Теперь оставалось только сторговать седла и уздечки, но тут Шико увидел, как из боковой улицы на площадь вышел Горанфло с двумя седлами на голове и двумя уздечками в руках.
– Ого! – воскликнул гасконец. – Что сие означает, куманек?
– Разве вы не видите? – ответил Горанфло. – Это седла и уздечки с наших мулов.
– Так ты их удержал, преподобный отче? – сказал Шико, расплываясь в улыбке.
– Ну да, – сказал монах.
– И ты продал мулов?
– По десять пистолей за голову.
– И тебе заплатили?
– Вот они, денежки.
И монах тряхнул карманом, в котором дружно зазвякали всевозможные монеты.
– Клянусь святым чревом! – воскликнул Шико. – Ты великий человек, куманек.
– Такой уж, какой есть, – с притворной скромностью подтвердил Горанфло.
– За дело! – сказал Шико.
– Но я хочу пить, – пожаловался монах.
– Ладно, пей, пока я буду седлать, только смотри не напейся.
– Одну бутылочку.
– Идет, одну, но не больше.
Горанфло осушил две, оставшиеся деньги он вернул Шико.
У Шико мелькнула было мысль не брать у монаха эти двадцать пистолей, уменьшившиеся на стоимость двух бутылок, но он тут же сообразил, что если у Горанфло заведется хотя бы два экю, то он в тот же день выйдет из повиновения.
И гасконец, ничем не выдав монаху своих колебаний, взял деньги и сел на коня.
Горанфло сделал то же с помощью капитана рейтаров, тот, будучи человеком богобоязненным, поддержал ногу монаха; в обмен за эту услугу Горанфло, устроившись в седле, одарил капитана своим пастырским благословением.
– В добрый час, – сказал Шико, пуская своего коня в галоп, – вот молодчик, которому отныне уготовано место в раю.
Горанфло, увидев, что его ужин скачет впереди, пустил свою лошадь вдогонку; надо сказать, что он делал несомненные успехи в искусстве верховой езды и уже не хватался одной рукой за гриву, другой за хвост, а вцепился обеими руками в переднюю луку седла и с этой единственной точкой опоры скакал так быстро, что не отставал от Шико.
В конце концов он стал проявлять даже больше усердия, чем его патрон, и всякий раз, когда Шико менял аллюр и придерживал лошадь, монах, который рыси предпочитал галоп, продолжал скакать, подбадривая своего коня криками «ур-ра!».
Эти самоотверженные усилия заслуживали вознаграждения, и через день вечером, немного не доезжая Шалона, Шико вновь обнаружил мэтра Николя Давида, переодетого лакеем, и до самого Лиона не упускал его из виду. К вечеру восьмого дня после их отъезда из Парижа все трое проехали через городские ворота.
Примерно в этот же час, следуя в противоположном направлении, Бюсси и супруги Сен-Люк, как мы уже говорили, увидели стены Меридорского замка.