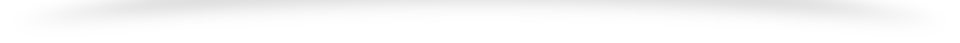Публикация, подготовка текста и вступительная заметка Елены Волковой
Опубликовано в журнале Новый Мир, номер 9, 2004
Осия Петрович Сорока (1927 — 2001) — один из самых известных переводчиков англоязычной литературы. В списке его основных переводов повесть У. Фолкнера «Медведь” и романы «Шум и ярость”, «Непобежденные”; романы Дж. Ле Карре «Убийство по-джентльменски”, Дж. Олдриджа «Горы и оружие”, С. Фицджеральда «Последний магнат”, О. Хаксли «О дивный новый мир”; новые переводы десяти пьес У. Шекспира («Буря”, «Мера за меру”, «Король Лир”, «Кориолан”, «Сон в шалую ночь”, «Отелло”, «Антоний и Клеопатра”, «Ромео и Джульетта”, «Как вам угодно”, «Венецианский купец” — см. книгу: Уильям Шекспир. «Комедии и трагедии”. М., «Аграф”, 2001).
За перевод «Короля Лира” О. П. Сорока удостоился Премии Москвы в 1992 г. (спектакль режиссера С. В. Женовача в Московском драматическом театре на Малой Бронной) и такого отзыва в журнале «Театр” (1992, № 10): «…Перевод Осии Сороки — это крупнейшее событие не только в истории шекспировских переводов, но и в истории взаимоотношений между русской культурой и Западом”.
Книгу пьес У. Шекспира в переводе О. П. Сороки завершает эссе переводчика «Загадки Шекспира”. Это серьезное литературное исследование под шутливой беллетристической оболочкой.
Предлагаемая статья «Как Чехов писал стихи” написана в той же беллетризованной форме «вечеров” с участием сердитого старичка Евсея Лунича, что и «Загадки Шекспира”. Это — вторая глава из неопубликованной книги переводчика «В поисках спасения” — о страсти творчества (см. журнал «Современная драматургия”, 2002, № 4 — «В моей пьесе видят положительно не то…”). В автобиографии О. П. Сорока писал: «Перевожу англоязычных прозаиков — по преимуществу беру прозу, так сказать, поэтическую. Стремлюсь сохранить ритм, мелодию фразы, потею над этим и мучаюсь”.
Пусть эти слова о «мелодии фразы” станут понятны широкому читателю на примере строк Антона Павловича Чехова в год столетия со дня его смерти.
Вечер первый. Два признания
Я пожаловался как-то Евсею, что не знаю вкуса икры.
— То есть не находите в ней вкуса? — с живостью переспросил он.
— Нет, просто никогда не ел икру.
— Да, для нас, малоденежных смертных, она ушла в возвышенную сферу мифов. Скудеет земное меню. А я помню еще довоенные икорные времена. Да что там, в году даже пятьдесят шестом Ленинград наводнили, помню, крабовые консервы. Небольшие такие жестяночки с красивой золоченой надписью «Чатка”. Латинскими буквами. Эти камчатские крабы были деликатно, тончайше вкусны. Действительно деликатес. Бело-розовое мясцо, завернуто причем в пергаментную бумагу — чтоб избежать соприкосновенья с металлом банки. И баснословно дешево — шестьдесят копеек. С каких небес упала эта манна, не знаю. Эти консервы явно предназначались для Запада. Возможно, Запад объявил им бойкот, поскольку их производили заключенные. А возможно, их забраковали отчего-то… Я-то их ел с удовольствием. Но я не зря спросил, находите ли вы вкус в икре. Как ни совестно сказать, сам я не нахожу. Моченую антоновку, капусту квашеную люблю, даже сейчас вот ощущаю во рту их со всеми оттенками вкуса. Как хорош острый рассольный сок красного помидорчика из бочки! А вот к икре я постыдно равнодушен — что красной, что черной. У Чехова описан дьячок… (Евсей порылся в пухлом бумажнике — там у него не деньги, а именно бумажки, склад бумажек.) Вот послушайте: «Как-то на поминках у фабриканта Костюкова старик дьячок увидел среди закусок зернистую икру и стал есть ее с жадностью; его толкали, дергали за рукав, но он словно окоченел от наслаждения: ничего не чувствовал и только ел. Съел всю икру, а в банке было фунта четыре”. Это несколько больше полутора килограммов… Таким как бы эпиграфом начинается страшная повесть «В овраге” — о катастрофе, нависшей над Россией. И вот этому несчастному дьячку я не способен сочувствовать. По мне, хоть бы и вовсе икры не было. Иммунитет это или уродство, но я готов признать, что это не совсем нормально.
— Ну уж, перегибаете.
— Да нет, в каждом, вероятно, человеке есть странности — есть своя если не изюминка, то безуминка. Раз уж пошло на признания, то откроюсь вам еще в одном: представьте, я не ощущаю разницы между поэзией и прозой.
— Не отличаете ямба от хорея? — пошутил я.
— Очень даже отличаю. Но в прозе слышу те же ритмы. Ситуация с поэтическими размерами такая. В ямбе и хорее чередуется ударный слог с безударным. В трехсложных размерах — ударный с двумя безударными. В дольнике ударный слог чередуется то с двумя, то с одним безударным. А в тактовике между ударными слогами — самое разное число безударных. И вот меня в прозе преследуют дольники, а еще более — тактовики, и нет от них спасения. Читаю, скажем, тургеневское «Довольно”. В нем человек-творец, художник безвозвратно прощается со своим творчеством:
Так скупой, в последний раз налюбовавшись
своим кладом, своим золотом, своим светлым сокровищем, —
засыпает его серой сырой землею;
так светильня истощенной лампады,
вспыхнув последним ярким пламенем,
покрывается холодным пеплом.
Взглянул зверек в последний раз из своей норки
на бархатную травку, на солнышко, на голубые ласковые воды —
да и забился в самую глубь, свернулся калачиком —
и заснул.
Будут ли ему хотя во сне мерещиться
и солнышко, и травка, и голубые ласковые воды?
Здесь три предложения. Для меня это три поэтических строфы. В первой шесть строк, то есть она — шестистишие. Затем четверостишие и двустишие. И слышится в этих строках тактовик.
Четырехударный: вспыхнув последним ярким пламенем;
трехударный: покрывается холодным пеплом;
пяти- и шестиударный, — скажем, в заключительном двустишии вторая строка — пятиударная.
— А в поэзии русской есть подобные строфы?
— Да. Вот у Блока — четырехударное двустишие:
Медленный, белый подходил рассвет,
Вместе с человеком взбирался на лестницу.
— Простите, Евсей, но для меня это звучит как-то расхлябанно. Я привык к более строгим стихам. А так любую прозаическую фразу можно объявить поэзией.
— В том же и вся штука, в том же и безумие. Для меня любая прозаическая фраза есть поэзия. Хорошая или плохая, но поэзия. А вам хотелось бы дать строже, устранить, как вы говорите, расхлябанность? Жил во времена Тургенева, а потом Чехова известный поэт и еще более известный судебный оратор С. А. Андреевский. И вот он задумал внести поэтический порядок в прозу Тургенева, — весьма прилежно переложил на строгий размер (амфибрахий) десять главок тургеневского «Довольно”. Тургенев воспротивился опубликованию этих стихов. Но после его смерти Андреевский все же напечатал свое переложение в «Вестнике Европы”. Видимо, считал его достойной данью памяти умершего. Вот послушайте наш отрывок в переложении поэта Андреевского:
Так точно, над кладом скупой
Дрожит и любуется золотом милым,
И с ним расставаясь, в молчанье унылом,
Его засыпает землей!
Так точно фитиль истощенной лампады,
Встречая повсюду горенью преграды,
Сверкает последним лучом —
И меркнет, скрываяся в пепле холодном!
Так точно, печалясь о лете свободном,
Зверок выползает тайком
Из маленькой норки и смотрит на воды,
На солнце, на травку, на синие своды
Пред долгим и тягостным сном, —
Взглянул — и свернулся, и в норку забился…
О, если б ему хоть однажды приснился
Тот луг, озаренный лучом!..
Какое здесь у Андреевского обилие слов-затычек, вставленных единственно ради рифмы или чтобы не сбиться с размера: «в молчанье унылом”, «выползает тайком”, «озаренный лучом”… И странная перестановка действий: «и свернулся, и в норку забился”. Естественней ведь, как в оригинале: забился, а затем свернулся. И даже целая пустопорожняя строка: «Встречая повсюду горенью преграды”. Нужна была большая, мягко говоря, наивность, чтобы предложить этот монотон взамен богатой, сложной ритмики Тургенева. Чтобы предложить этот балласт взамен тургеневских эпитетов и торжественных утроений:
…своим кладом, своим золотом, своим светлым сокровищем —
засыпает его серой сырой землею.
Слышите вы скорбные удары тургеневского ритма? А ведь Андреевский искренно считал, что преображает прозу в драгоценный перл поэзии! Смех да и только… Тургенев, между прочим, начинал со стихов. Писал свои поэмы изысканными строфами сложней даже онегинской. Другого такого поэта-ритмиста у нас не было до Чехова.
— Ну уж, вы опять загибаете. Чехов стихов не писал.
— Не писал, говорите? Завтра я с вами поспорю.
Вечер второй. Влюбленность.
— Есть у Чехова очень сильный рассказ «Святою ночью” — о монахе, сочинителе акафистов — хвалебных духовных песнопений. Так вот, и сам Чехов в 1896 году написал своеобразный акафист в честь двух девушек. Я говорю о «Доме с мезонином”. От первой до последней строчки это поэзия — не в переносном, а в самом прямом смысле. Предложения-строфы этой чеховской поэмы разнообразны. Здесь и одностишия, и двустишия, трехстишия, четверостишия. Вот вам пример двустишия:
Зеленый огонь погас,
И не стало видно теней.
Сравните у Блока:
Снежная мгла взвилбась,
Легли сугробы кругом.
Вот пара чеховских трехстиший:
И тут тоже запустение и старость;
прошлогодняя листва печально шелестела под ногами
и в сумерках между деревьями прятались тени.
Направо, в старом фруктовом саду,
нехотя, слабым голосом пела иволга,
должно быть тоже старушка.
А вот пара блоковских:
Оказалось, что большой пестрый кот
С трудом лепится по краю крыши,
Подстерегая целующихся голубей.
Я рассердился больше всего на то,
Что целовались не мы, а голуби,
И что прошли времена Паоло и Франчески.
— Это откуда? — спросил я.
— Из стихотворения «Она пришла с мороза…”.
— Там так и напечатано трехстишиями?
— Да. А у Чехова и у Тургенева ритм приглушен, строфы и строки не подчеркнуты, не разделены графически. Это я их сейчас подчеркиваю и разделяю. Но если чеховская ритмика уступает здесь блоковской, то я тупой профан, лишенный слуха, — или же сумасшедший. Но перейдем к четверостишиям. В «Доме с мезонином” это важнейший, стержневой вид строфы (как и вообще в поэзии).
Они всегда вместе молились,
и обе одинаково верили,
и хорошо понимали друг друга,
даже когда молчали.
Когда одна уходила в сад,
то другая уже стояла на террасе
и, глядя на деревья, окликала: «ау, Женя!”
или: «мамочка, где ты?”
Заметим, что третья строка удлиняется в поэзии чаще других строк. Например, у Блока:
А берег опустелой гавани
Уж первый легкий снег занес…
В самом чистом, самом нежном саване
Сладко ли спать тебе, матрос?
А иногда она и укорачивается. Вот у Чехова:
Мы подбирали грибы и говорили,
и когда она спрашивала о чем-нибудь,
то заходила вперед,
чтобы видеть мое лицо.
Сравните в «Пузырях земли” у Блока:
И шишак — золотое облако —
Тянет ввысь белыми перьями
Над дерзкой красою
Лохмотий вечерних моих.
Уходя в этот вечер от Волчаниновых,
я уносил впечатление длинного-длинного, праздного дня,
с грустным сознанием, что все кончается на этом свете,
как бы ни было длинно.
Сравните эту плавную строфу со строфой из блоковской «Влюбленности”:
Уж в стремнинах туман, и рога созывают стада,
И заветная мгла протянула плащи и скрестила мечи,
И вечернюю грусть тишиной отражает вода,
И над лесом погасли лучи.
Обратите внимание на краткость последней строки. Это особая краткость просветленной печали… Я готов цитировать бесконечно. Чехов говорил о Лермонтове: «Я бы так сделал: взял бы его рассказ и разбирал бы, как разбирают в школах, — по предложениям, по частям предложения… Так бы и учился писать”. Вот так надо разбирать самого Чехова — по строфам и строкам. Вы послушайте:
Нас до ворот провожала Женя, и оттого, быть может,
что она провела со мной весь день, от утра до вечера,
я почувствовал, что без нее мне как будто скучно
и что вся эта милая семья близка мне,
и в первый раз за все лето мне захотелось писать.
Какая красивая и сложная строфа! Строки этого пятистишия имеют как бы паузу (цезуру), а за паузой следует краткое окончание строки: «и оттого, быть может”, «от утра до вечера”, «как будто скучно”, — и это создает особый эффект отзвука, эха. Замечательны эти живущие в строфах рассказа короткие перекликанья, отголоски. Ау, Женя! Мисюсь, где ты?..
Есть в «Доме с мезонином” строфы в семь, восемь и более строк. Я приведу вам только длинную великолепную строфу:
Одна из них, постарше,
тонкая, бледная, очень красивая,
с целой копной каштановых волос на голове,
с маленьким упрямым ртом,
имела строгое выражение
и на меня едва обратила внимание;
другая же, совсем еще молоденькая —
ей было 17 — 18 лет, не больше —
тоже тонкая и бледная,
с большим ртом и с большими глазами,
с удивлением посмотрела на меня, когда я проходил мимо,
сказала что-то по-английски и сконфузилась,
и мне показалось, что и эти два милых лица
мне давно уже знакомы.
Эти четырнадцать строк — словно онегинская строфа о двух прелестных, светлых девушках.
— А как в других рассказах? Тоже, по-вашему, стихи?
— О да. У зрелого Чехова в каждой вещи своя музыка. Скажем, в «Анне на шее” задают тон летящие, вальсирующие шестистишия:
Она имела успех у мужчин,
это было ясно,
да иначе и быть не могло,
она задыхалась от волнения,
судорожно тискала в руках веер
и хотела пить.
Для «Ариадны” характерно описание «монотонного времени” на заграничном курорте: «Каждый день мы гуляли и только гуляли. То бродили по парку, то ели, то пили. Каждый день разговоры с русским семейством” — три фактически равностопных одностишия подряд. Монотонность усугублена анапестическим ритмом.
Знаете, Чехов писал одной подававшей надежды беллетристке: «Вы не работаете над фразой; ее надо делать — в этом искусство. <…> надо заботиться об ее музыкальности <…>”. Как же сам Чехов работал над фразой?
Сохранилась черновая рукопись «Невесты”, и это дает редкую возможность заглянуть в процесс работы Чехова над ритмом. Чехов уничтожал черновики, но когда писал свой последний рассказ, не до того уж, видно, ему было. Сравним описание утреннего сада в черновиках второй главы с окончательным текстом. Вот самый ранний вариант начала:
Под окном и в саду стали шуметь птицы,
туман ушел к реке,
все кругом засияло, заблестело.
Следующий вариант:
Под окном и в саду зашумели птицы,
туман ушел из сада,
все кругом засияло, заблестело.
Печатный текст:
Под окном и в саду зашумели птицы,
туман ушел из сада,
все кругом озарилось весенним светом,
точно улыбкой.
Чехов ставит «зашумели” вместо «стали шуметь”, и ритм первой строки сразу обретает четкость; «засияло, заблестело” Чехов расширяет в «озарилось весенним светом, / точно улыбкой” и ставит точку, оформляя первую строфу. Вторая строфа продолжает ритм:
Скоро весь сад, согретый солнцем,
обласканный, ожил,
и капли росы, как алмазы,
засверкали на листьях;
и старый, давно запущенный сад в это утро казался
таким молодым, нарядным.
Обратите внимание: в окончательный текст Чехов вставил слова «давно запущенный”, чтобы приглушить этот ритм, чтобы не походило на «стихоплетство”. Финальная затушевка ритма — прием очень характерный.
— А правильных размеров Чехов избегал?
— Что значит «правильные размеры”? Разве чеховский дольник здесь менее поэтичен, чем традиционные анапесты и ямбы? Но и они случаются у Чехова. В «Палате № 6” — в момент кульминационный, в минуту невыносимого ужаса — звучит чистейший ямб: «Затем всё стихло. Жидкий лунный свет шел сквозь решетки, и на полу лежала тень, похожая на сеть”. А вот Чехов пишет Плещееву о смерти брата, и скорбные слова сами ложатся анапестом: «во всю жизнь не забыть мне ни грязной дороги, ни серого неба, ни слез на деревьях”… Ну, убедились, что Чехов — поэт? Что Чехов — ритмист?
— Убедился.
Что ж, я рад. Я в Чехова влюблен навеки.
Публикация, подготовка текста и вступительная заметка дочери автора ЕЛЕНЫ ВОЛКОВОЙ (из семейного архива).
Старый холостяк Павел Константинович Алёхин принимал гостей в своём поместье.
Павел Константинович Алёхин — владелец большого, но небогатого поместья, холостяк, интеллигентный и образованный, мягкий и нерешительный
За завтраком заговорили о служащем у Алёхина поваре. В этого повара была влюблена красивая горничная, но замуж за него не шла. Повар же был набожным, жить с женщиной вне брака не хотел, часто напивался и бил её.
Продолжение после рекламы:
Эта история побудила гостей пуститься в рассуждения о любви. Алёхин считал, что никому не известно, как зарождается любовь. Он не понимал, почему эта прекрасная женщина полюбила такого неприятного человека, и считал, что русские усложняют любовь «роковыми вопросами» — хорошо это или плохо, честно или нечестно и к чему всё приведёт. Такие вопросы мешают любить и ставят непреодолимые преграды на пути самого сильного чувства.
В качестве примера Алёхин рассказал историю своей жизни.
У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали.
У отца Алёхина был большой долг, отчасти и потому, что он много потратил на обучение сына. Поэтому, окончив университет, Алёхин вернулся в родное поместье, твёрдо решив отработать долг.
Брифли существует благодаря рекламе:
По природе своей Алёхин был белоручкой и поначалу не хотел расставаться «со своими культурными привычками». Он поселился в парадных комнатах, по утрам пил кофе с ликёрами, а на ночь читал «Вестник Европы». Но такая жизнь продолжалась недолго. Алёхин втянулся в работу, которая ему совершенно не нравилась, ел в людской и часто ночевал не в своей постели, а «в сарае, в санях или где-нибудь в лесной сторожке».
В самом начале Алёхин стал почётным мировым судьёй, и единственным его развлечением стало «наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда». Ранней весной, во время одной из таких поездок, Алёхин познакомился с Дмитрием Лугановичем, товарищем председателя окружного суда, и его прелестной женой Анной Алексеевной.
Дмитрий Луганович — судейский чиновник старше сорока лет, добрый, но скучный и ограниченный Анна Алексеевна — жена Лугановича, намного младше мужа, стройная, красивая блондинка, умная, интеллигентная
Алёхин ещё не встречал такой миловидной, доброй и интеллигентной женщины. Было видно, что семья Лугановичей живёт дружно — супруги всё делали вместе, у них росла дочь. Всё лето Алёхин вспоминал о белокурой Анне Алексеевне, но увидел её снова только поздней осенью.
Продолжение после рекламы:
Они встретились на благотворительном спектакле, и с тех пор Алёхин стал своим в их доме. Он приходил без приглашения, играл с ребёнком, подолгу беседовал с Анной Алексеевной. Лугановичи знали о бедственном положении Алёхина, постоянно беспокоились о нём, считали, что такой образованный человек должен заниматься наукой, и старались ссудить его деньгами. Лугановичи были состоятельными людьми, но Алёхин старался не брать у них в долг, и тогда они просто дарили ему ценные вещи.
Несчастный Алёхин, влюблённый в Анну Алексеевну, не мог понять, что заставило её стать женой немолодого, неинтересного и слишком простого для неё Лугановича. Приезжая в город, Алёхин понимал, что Анна Алексеевна ждала его, но у них не хватало смелости признаться друг другу в любви.
Алёхин считал, что ничего не сможет дать Анне Алексеевне, а потому не в праве разрушать её счастливую семью. Она же думала о муже и детях и считала, что её любовь не принесёт Алёхину счастья — ей казалось, что она недостаточно молода и энергична.
Брифли существует благодаря рекламе:
Шли годы. Анна Алексеевна родила второго ребёнка. Дети называли Алёхина дядей, а взрослые считали его «благородным существом». Анна Алексеевна начала сознавать, что жизнь её испорчена, и лечилась от нервного расстройства. Алёхин её раздражал, и на людях она постоянно ему противоречила.
Лугановича назначили председателем в западную губернию. Пока муж продавал имущество, Анна Алексеевна решила поехать полечить нервы в Крым. Провожали её большой толпой. Перед отправлением поезда Алёхин заметил, что она забыла одну из корзинок, и забежал в вагон.
Оставшись наедине, в этот последний момент они признались друг другу в любви, и Алёхин понял, как мелко было всё, что мешало им любить.
… когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель… или не нужно рассуждать вовсе.
Они поцеловались и расстались навсегда.
Выслушав историю, гости вышли на балкон, любовались видом, жалели такого образованного человека, который не занимался наукой, а вертелся как белка в колесе, и думали о скорбной сцене прощания. Один из гостей был даже знаком с Анной Алексеевной и «находил её красивой».
 Антон Палыч Чехов однажды заметил,
Антон Палыч Чехов однажды заметил,
что умный любит учиться, а дурак — учить.
Скольких дураков в своей жизни я встретил —
мне давно пора уже орден получить.
Дураки обожают собираться в стаю.
Впереди их главный во всей красе.
В детстве я верил, что однажды встану,
а дураков нету — улетели все.
Ах, детские сны мои — какая ошибка,
в каких облаках я по глупости витал.
У природы на устах коварная улыбка…
Видимо, чего-то я не рассчитал.
А умный в одиночестве гуляет кругами,
он ценит одиночество превыше всего.
И его так просто взять голыми руками,
скоро их повыловят всех до одного.
Когда ж их всех повыловят — наступит эпоха,
которую не выдумать и не описать…
С умным — хлопотно, с дураком — плохо.
Нужно что-то среднее. Да где ж его взять?
Дураком быть выгодно, да очень не хочется,
умным — очень хочется, да кончится битьем…
У природы на устах коварные пророчества.
Но, может быть, когда-нибудь к среднему придем.
Булат Окуджава
*****
Ах, зачем нет Чехова на свете!
Сколько вздорных — пеших и верхом,
С багажом готовых междометий
Осаждало в Ялте милый дом…
День за днем толклись они, как крысы,
Словно был он мировой боксер,
Он шутил, смотрел на кипарисы
И прищурясь, слушал скучный вздор.
Я б тайком пришел к нему иначе:
Если б жил он, — горные мечты! —
Подошел бы я к решетке дачи
Посмотреть на милые черты.
А когда б он тихими шагами
Подошел случайно вдруг ко мне —
Я б, склонясь, закрыл лицо руками
И исчез в вечерней тишине.
Саша Черный
*****
Вежливый доктор в старинном пенсне и с бородкой.
вежливый доктор с улыбкой застенчиво-кроткой,
как мне ни странно и как ни печально, увы,
старый мой доктор, я старше сегодня, чем вы.
Годы проходят, и, как говорится, — сик транзит
глория мунди, — и все-таки это нас дразнят.
Годы куда-то уносятся, чайки летят.
Ружья на стенах висят, да стрелять не хотят.
Грустная желтая лампа в окне мезонина.
Чай на веранде, вечерних теней мешанина.
Белые бабочки вьются над желтым огнем
Дом заколочен, и все позабыли о нем
Дом заколочен, и нас в этом доме забыли.
Мы еще будем когда-то, но мы уже были.
Письма на полке пылятся — забыли прочесть,
Мы уже были когда-то, но мы еще есть.
Пахнет грозою, в погоде видна перемена.
Это ружье еще выстрелит — о, непременно!
Съедутся гости, покинутый дом оживет,
Маятник медный качнется, струна запоет.
Дышит в саду запустелом ночная прохлада.
Мы старомодны, как запах вишневою сада.
Нет ни гостей, ни хозяев, покинутый дом.
Мы уже были, но мы еще будем потом.
Старые ружья на выцветших, старых обоях.
Двое идут по аллее — мне жаль их обоих.
Тихий, спросонья, гудок парохода в порту.
Зелень крыжовника, вкус кисловатый во рту.
Левитанский Юрий
*****
Зажглась, как тысячи свечей, заря.
Глава семейства Богу помолился –
Антоша Чехов – третий сын родился.
Красив, здоров, и вес богатыря!
Он стал писателем, пленившим мир,
Таких, как Чехов, мало на планете,
О нем в ходу легенды и сонеты,
Он – гордость таганрожцев, всех кумир.
*****
Не знаю, как для англичан и чехов,
Но он отнюдь для русских не смешон,
Сверкающий, как искристый крюшон,
Печальным юмором серьезный Чехов.
Провинциалки, к цели не доехав,
Прощались с грезой. Смех их притушен.
И сквозь улыбку мукою прожжен
Удел людей разнообразных цехов.
Как и тогда, как много лет назад,
Благоухает нам вишневый сад,
Где чувства стали жертвой жалких чувствец…
Как подтвержденье жизненности тем —
Тем пошлости — доставлен был меж тем
Прах Чехова в вагоне из-под устриц…
Игорь Северянин
*****
Его я часто вспоминаю.
Вот и теперь передо мной
Стоит он, точно как живой,
Такой, каким его я так люблю и знаю:
Сухие, тонкие черты,
Волос седеющие пряди.
И эта грусть в глубоком взгляде,
Сосредоточенном и полном доброты.
Больной и бесконечно милый,
Он был похож на первоцвет,
Сквозь снег пробившийся на свет,
Чтоб возвестить весну
пред раннею могилой.
Он о своей судьбе молчал,
Хотя до дна источник видел.
Страдая, жизнь не ненавидел,
Жалея всех людей, он их
не презирал.
Средь цепких трав трясины зыбкой,
Где гады скользкие шипят,
Стоял он, ужасом объят,
Но с побеждающей
пророческой улыбкой.
И сквозь удушливую тьму
Глядел с глубокою печалью:
Заря не светится ль за далью?
И всем незримое открылося ему.
Средь ослепленных и безглазых
Один прозрел он горний свет
И нам оставил, как завет:
«Увидим ангелов и небеса в алмазах».
Федоров Александр
*****
Чеховский домик
На берегу Садового кольца
Стоит уютный двухэтажный домик,
К нему подходим, и уже с крыльца
Он нас с Антоном Павлычем знакомит.
Здесь доктор Чехов принимал больных,
Писатель Чехов сочинял страницы —
И гражданин великий их двоих
Соединил, чтоб правде утвердиться.
Достиг он зрелых творческих вершин
И помнил молодости идеалы…
Когда собрался я на Сахалин,
То в домик Чехова зашел сначала.
Глазков Николай
*****
В наши дни трехмесячных успехов
И развязных гениев пера
Ты один, тревожно-мудрый Чехов,
С каждым днем нам ближе, чем вчера.
Сам не веришь, но зовешь и будишь,
Разрываешь ямы до конца
И с беспомощной усмешкой тихо судишь
Оскорбивших землю и Отца.
Вот ты жил меж нами, нежный, ясный,
Бесконечно ясный и простой,
Видел мир наш хмурый и несчастный,
Отравлялся нашей наготой…
И ушел! Но нам больней и хуже:
Много книг, о, слишком много книг!
С каждым днем проклятый круг все уже
И не сбросить «чеховских» вериг…
Ты хоть мог, вскрывая торопливо
Гнойники, — смеяться, плакать, мстить.
Но теперь все вскрыто. Как тоскливо
Видеть, знать, не ждать и молча гнить!
Саша Черный
*****
Ялта Чехова
Брожу по набережной снова.
Грустит на рейде теплоход.
И прелесть улочек портовых
Вновь за душу меня берет.
Прохладно, солнечно и тихо.
Ай-Петри в скудном серебре.
Нет, не курортною франтихой
Бывает Ялта в январе.
Она совсем не та, что летом —
Скромна, приветлива, проста.
И сердце мне сжимает эта
Застенчивая красота.
И вижу я все чаще, чаще,
В музейный забредая сад,
Бородку клином, плащ летящий,
Из-под пенсне усталый взгляд.
Друнина Юлия
*****
Истопленные печи холодны.
Ни экскурсантов, ни экскурсоводов.
И полон дом воскресной тишины —
Она ему желанна, как свобода.
Ведь все-таки — три миллиона лиц,
Шесть миллионов ног — не так уж мало.
Звучит скрипучий говор половиц
Из года в год все более устало.
Не слышит, впрочем, этого никто.
Сюда, со всех концов земли приехав,
Хотят увидеть шляпу и пальто,
Узнать, где спал
И как обедал Чехов.
И замечают, оглядев весь дом,
Кровать и стол, и в кабинете нишу,
Что чудно сохранилось все кругом,
И кажется: хозяин только вышел…
Ах, нет, увы! Он вышел так давно,
Что не припомнят даже старожилы,
И это разноцветное окно
С тех пор десятки зим запорошили.
Ну, хорошо, увидели вы шкаф,
Тарелки показали — дальше что же?
Я понимаю: проще измерять
Бессмертие количеством салфеток,
И мерить славу тиражами книг,
Числом изданий, отзывов и критик,
В театр не сходить на «Трех сестер»,
Рассказов не прочесть, зато увидеть
Массивный стол, служивший основаньем
Локтям писателя. На нем — перо,
Скользившее когда-то по бумаге,
И с Чеховым тем самым породниться!
Ах, нет, увы.
Он вышел так давно,
Что не припомнят даже старожилы…
А дом — он что ж,
Вместилище теней.
Пустующая раковина. Панцирь,
Что выдержал и войны, и разрухи,
Годины смуты и землетрясенье.
Он без хозяина — как тело без души,
Как печка без огня, как жизнь без цели.
Чернильница пуста. Карандаши
Давно не пишут. Осень дует в щели.
Новиков Николай
*****
Антону Павловичу Чехову
Цветущий мирный уголок,
Где отдыхал я от тревог
И суеты столицы душной,
Я буду долго вспоминать,
Когда вернусь в нее опять,
Судьбы велениям послушный.
Отрадно будет мне мечтой
Перенестись сюда порой, —
Перенестись к семье радушной,
Где теплый дружеский привет
Нежданно встретил я, где нет
Ни светской чопорности скучной,
Ни карт, ни пошлой болтовни,
С пустою жизнью неразлучной;
Но где в трудах проходят дни
И чистый, бескорыстный труд
На благо края своего
Ценить умеет темный люд,
Платя любовью за него…
Не раз мечта перенесет
Меня в уютный домик тот,
Где вечером, под звук рояли,
В душе усталой оживали
Волненья давних, прошлых дней,
Весны умчавшейся моей,
Ее восторги и печали!..
Спасибо, добрые друзья,
За теплый, ласковый привет,
Которым был я здесь согрет!
Спасибо вам! И если снова
Не встречусь с вами в жизни я,
То помяните добрым словом
В беседе дружеской меня.
Алексей Плещеев
*****
Чехов в Ялте
Художник умирал и знал, что умирает.
Избрав для этого туман бесснежных зим,
Не позволяющих пренебрегать мирами,
Которыми был мир тогдашний одержим.
Для несказанного пренебрегая словом,
Он, гений паузы, других не зная уз,
Привычно различал в сиянии лиловом
Неуловимые черты знакомых муз.
Он принимал от них бесценные подарки,
Неловко делал вид, что сам он вне игры,
И, зная в глубине души, что музы — парки,
Богинь судьбы назвал он просто «три сестры».
Шут проницательный воскликнул бы: Умора!
На сцене корифей, и он — увы! — один…
За неимением трагического хора
Остался вздох: В Москву! В Москву! Dahin! Dahin!
А почему не взять обратного билета
В Москву, где пляшет снег и падает в рукав?
Но даже в холода не замерзает Лета,
И нет через нее в пространстве переправ.
Где каждый холм в лазурь взвивается спиралью,
Где зелень вечная — на солнце жалюзи,
Отгородился он многоэтажной далью
От современников, толпящихся вблизи.
В растроганной толпе художник-недотрога
Застенчиво таил под сердцем уголек.
Скрывая тщательно: тот, кто далек от Бога,
От ненавидящих и любящих далек.
Двадцатый век его заранее измаял,
Украдкой в легкие вселив туберкулез.
Он берег отыскал и сам, как берег, таял,
И Ялта таяла от ливней и от слез.
Он видел издали: нет, небо не в алмазах;
Смерть будет в воздухе жужжать, как майский хрущ;
Но в истребителях и в ядовитых газах
Бог приближается, далек и вездесущ.
Микушевич Владимир
*****
Дом с мезонином
Прощайте, Машенька, прощайте.
Пришла ушедшая пора…
Меня, как Дом, не замечайте,
Ведь дождик льет как из ведра.
Я буду рад, слегка отъехав,
Что Дом, не зная почему,
Стоит задумчивый, как Чехов,
И улыбается всему.
Здесь были мы других не хуже.
Нам было по семнадцать лет.
И тополиный пух на лужи
Летел, как бабочки на свет.
И вишни, близкие к удару,
Шумели в лад, вбежав во двор,
Как исполняя под гитару
Сквозной мотив из «Трех сестер».
…Машинка, как сороконожка,
Все что угодно перешьет…
А Дом подлечится немножко
И Автора переживет.
Прощайте, Машенька, прощайте!
Живите с веком наравне.
Но никому не обещайте,
Что обещали только мне.
Соколов Владимир
*****
А Ялта, а Ялта ночью: зажженная елка,
Неприбранная шкатулка, эмалевый приз!..
Побудьте со мной, упрямый мальчишка — креолка:
По линиям звезд гадает О нас кипарис.
Он Чехова помнит. В срубленной наголо бурке
Обхаживает его особняк — На столбах.
Чуть к ордену ленту (…спектром…), запустят в окурки
Азот, водород, — Клевать начинает колпак.
Ланцетом наносят оспу москиты в предплечье,
Чтоб, яд отряхая, высыпал просом нарзан,
В то время, как птица колоратурой овечьей
«(…Сопрано…) (Кулик?) — Усните! — По нашим глазам…
Побудьте со мной, явившаяся на раскопки
Затерянных вилл, ворот, городищ и сердец!:
Не варвары — мы, тем более мы в гороскопе,
Сквозь шель, обнаружим темной Тавриды багрец.
…Горел кипарис в горах, кипарисово пламя,
Кося, залупил свистящий белок жеребца.
Когда, сторонясь погони, повисла над Вами
С раздвоенною губой человеко-овца.
В спектральном аду старуха-служанка кричала,
Сверкала Горгоной, билась: — На помощь! На по…
— Не я ли тут, Ялта (Стража у свай, у причала),
К моей госпоже — стремглав (…В тартарары…) тропой!
Оружие! Полночь… Обморок, бледный и гулкий, —
И Ваша улыбка… Где он, овечий храбрец?
Алмазы, рубины в грохнувшей наземь шкатулке,
Копытами въехав, Раненый рыл жеребец.
Вы склонны не верить, — выдумка! — Мой археолог,
Что был гороскоп: Тавриде и варварам — смерть…
А Крым? Кипарис? А звезды? А клятва креолки,
Грозящей в конце пучком фиолетовых черт?
Среди ювелиров, знаю, не буду и сотым,
Но первым согну хребет: к просяному зерну.
Здесь каждый булыжник пахнет смолой, креозотом:
Его особняк, пойдемте, и я озирну.
Кидается с лаем в ноги и ластится цуцка.
Столбы, телескоп. И нет никого, ни души.
Лишь небо в алмазах (…Компас…) Над нашей Аутской:
Корабль, за стеклом — чернильница, карандаши…
Не та это, нет (что с дерева щелкает), шишка:
К зиме отвердеет, елочным став, колобок.
Другою и Вы, креолка, опасный мальчишка,
В страницы уткнетесь: с вымыслом жить бок о бок.
Когда ж в перегаре фраунгоферовых линий
(Сквозь щель меж хрящами) тонко зальется двойник, —
Вы самой приятной, умной его героиней
Проникните в сердце: лирик к поэту проник.
Зима. Маскарад. И в цирке, копытами въехав
В эстраду, кивает женским эспри буцефал…
Алмазная точка, ус недокрученный: Чехов…
Над Ялтой один (…как памятник…) заночевал!
Зимой и в трамвае обледенеет креолка:
Домой, — не довольно ль ветреных, радужных клятв?..
По компасу вводит нас — в тридесятое! — Елка:
Светло от морщин, и в зеркале — докторский взгляд…
Нарбут Владимир
*****
Памяти Антона Чехова
Как скоро смерклося… А я не дочитал,
Еще не дочитал последние страницы,
Где жизнь — ничтожество и смутный идеал
Так не похож на небылицы.
Что было бы в конце… не знаю, не пойму,
Огонь в кремне иссяк, унесена лампада,
Но только с первых строк, как луч в сырую тьму,
Блеснула тихая услада.
Мне грустно и тепло! Заплакать — нет слезы.
Вздохнуть — но грудь и так разорвалась от вздоха…
Вот повесть бытия без воплей и грозы,
Но и без смеха скомороха.
Я только что хотел вникать в глубокий ум.
И только вызвали мне пестрые страницы
Виденья тихие и рои тайных дум, —
Как холод опахнул гробницы.
Стемнело. Мрак вокруг, а в доме нет огня…
Не слышно шепота, ласкающего ухо.
И книгу я закрыл… и жду другого дня,
А сердце бьется глухо… глухо…
Фофанов Константин
*****
Они садились на пароход.
Чайки взрывались криком.
Ему только сорок четвёртый год.
Да какой же к чёрту старик он.
Вспыхивало в памяти: ночь – на возах,
степь, расцвеченная жемчугом,
и, как это серое небо, глаза
любимой когда-то им женщины,
для которой стать бы он мог
солнцем, цветущим полем…
если б к себе не был слишком строг
раб своей собственной воли.
Ветер котёнком тёрся о грудь,
чайки носились неистово,
видимо что-то знали про путь
до «Новодевичьей пристани».
Слышал я – в чаек и в журавлей
вселяются наши души.
Смерть к нему оказалась добрей
Баденвейлера* и «немчуши».**
Сколько бы вод с Чёрных гор не стекло
в старые римские термы,
в памяти: бабочка – бьётся в стекло
с краткою фразой «ich sterbe»****
Росин Вадим
_____________________________
* Баденвейлер, курорт в Германии на западном склоне гор Шварцвальде (Чёрный лес) – Земля Баден Вюртемберг, куда Чехов приехал, по его словам, умирать.
** так ласково называл Антон Павлович свою жену Ольгу Леонардовну Книппер-Чехову.
*** «я умираю», последние слова Чехова. Умер Антон Павлович 2 июля 1904г.
*****
Памяти А. П. Чехова
Не мне, не мне сплетать на гроб ему цветы…
Не верит сердце в то, что жизни нет возврата.
Из дымки прошлого, как милый облик брата,
Встают знакомые, любимые черты.
На утре юности и светлым утром мая,
Вот я брожу в саду, его словам внимая;
Он говорит о том, как нынче из земли,
Еще лишенной трав, чернеющей и влажной,
Тюльпаны ранние вдруг поднялись отважно,
О том, как яблони роскошно зацвели;
И ласка грустная прищуренного взгляда
Обводит с нежностью и свет, и тени сада.
Тенистый старый сад… Он так любил его!..
Он слушал в нем весны живое колдовство,
Он в нем творил и жил… Но чеховскими снами
Не дышит старый сад; за милыми стенами
Чужие голоса, чужие дни идут,
А он, — а он нашел себе иной приют.
— В Москве есть монастырь, с оградою зубчатой,
Покоем благостным и стариной богатый;
Там башня старая – на ней часы идут,
И отмечает бой воздушный ход минут.
Как зерна жемчуга на дно хрустальной чаши,
Как капли чистых слез из глубины души,
Минуты падают в задумчивой тиши…
По вянущим листам шаги замедлим наши,
Пусть тихо нам звучит тот серебристый звон.
Минуты падают с верхов старинной башни…
— Где день сегодняшний?.. Не он ли день — вчерашний?
Что было и что есть?.. Где истина, где сон?..
И звон серебряный — мгновением летящим
Роднит прошедшее так странно с настоящим:
И все не верится, что нас покинул он,
И все не верится, что здесь его могила,
Когда бы надпись нам бесстрастно не гласила:
«Здесь Чехов схоронен».
Но полно, здесь ли он?.. Под тяжестью гранита
Ужель его душа погребена и скрыта?..
Ужели нет его? В прозрачной тишине,
Где слышен ход минут, как звон жемчужных четок,
Он верно с нами здесь, печален, но и кроток,
Он с нами навсегда: и в каждом сером дне,
И в русских сумерках, и в летней дреме сада,
И в нежной девушке с задумчивостью взгляда,
И в скорбной женщине с надломленной душой;
В молитвенной тоске, и чистой и большой;
В осеннем вечере и музыке Шопена;
Он с нами, наконец, и в детской вере той,
Что человечество низвергнет узы плена,
И будет жизнь еще прекрасной и святой!..
Он с нами навсегда: душа его родная,
Все наши тягости, сомненья, муки зная,
Нам издали дарит свой грустный, тихий свет,
Как тихая звезда над мутными волнами…
И верю: с Чеховым для нас разлуки нет,
Пока душа жива — я знаю — Чехов с нами!
Щепкина–Куперник Татьяна